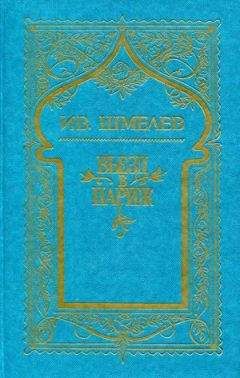– А вот… уходите.
Это был белобровый парнишка, с слюнявыми губами. Он поставил винтовку к арке и стал колупать ладонь.
– Почему?! У нас ордер…
– Мало что, а… уходите, больше ничего.
– Да позвольте… почему мы должны уходить?!. – возмутился Поппер, обзывая мысленно сопляком.
Солдатишка отколупнул мозоль и стал раскусывать.
– Я энтих делов не знаю. Вам говорят, ступайте… а то начкара свистну сейчас. Он вам тогда скажет, почему…
– Товарищ, не будьте цербером! – сказал Вадя, протягивая солдату папироску. – Хоть покурить, что ли…
Парнишка взял папироску и положил за обшлаг, как должное.
– Видите, товарищ… Этот старинный дворец сохранен рабоче-крестьянской властью для всех граждан… и мы, как граждане…
– Энто я без вас знаю, что рабочая власть… Они закурили, ждали.
– Нечего мне вам объяснять. Не враз попали. Сама уехала, а без ее нельзя. То-лько вот со стариком отъехала… Небось она вам попалась?
– То есть как?.. При чем тут… Кто это она? – заговорили они все вместе.
– Живет тут со стариком, охраняет. От ее зависит. И ключи у ней… Поедет и запрет.
Они смотрели, не понимая, вглядываясь друг в друга.
– Может, к зятю поехали… тогда не скоро. А может, на Смоленской, купить чего. Она часто ездит, катается… – расколупывая ладонь, болтал парнишка. – Хотите – погодите… по лесу погуляйте. Этого она не воспрещает. А коль к самому поехали, до ночи не воротются. Он в Ильинском теперь живет.
– Кто он?.. – спросили они все вместе.
– Товарищ Тро-цкай… кто! – подтряхнул головой парнишка. – Евоная теща, полный полномочии! Троцкая теща… поняли теперь? При себе допускает, а так велит гнать. Боится, покрадут. Теща евоная, самого Троцкова! А то как ничего. С которыми и сама ходит, рассказывает, как у их там… о-ченно сильвировано!..
– Мммдаааа… – промычал Хмыров в бороду. – Были князья, теперь те-ща!..
– Понятно, все ее боятся… Троцкая теща! А об князей я не знаю, рязанской я. Каки-то, словно, жили, сказывали тут некоторые люди… что хорошего роду. Конешно, теперь все – народное. А старик ее вроде казначей, с сумкой ездит. Отвезет чего, а то привезет… дело-вой! Ну, она шибчей старика.
– Так-с. Строгая, выходит?
– Не шибко строгая, а… Надысь Артемова нашего на трои сутки запекла! А так. Сказал, про себя… несознательный он, конешно. Ну, она дослышала, враз в телехвон, самому! Нажалилась. На трои сутки, для дисциплины! Вы как… не партейные? Под копытом видит! Живот надысь у ей схватило, ночью… сметаны облопалась… Тут у их во-семь коров, молоком торгуют… Солдата в аптеку ночью погнала, за семь верст! Сво-лочь какая, погнала!.. – оглянулся с опаской солдатишка. – Разве энто порядки? Царица, вон говорят, у нас и то так не гоняла…
Он глубоко запустил руку под шинель, под мышку.
– Заели… все тело зудится, а мыльца нету. Они пожалели и дали ему на мыльце.
– Значит, никак нельзя без нее?
– Не, ни под каким видом.
– Мы бы недолго… Может быть, как-нибудь?..
– Да что вы, махонький, что ли… не понимаете! Говорят вам, ключи с собой увозит… никому не доверится! Наши-то бы пустили поглядеть… Жалко нам, что ли! Гляди, пожалуйста. Вот, глядите отседа… на воздухе-то и лучше даже. А то, может, дождетесь. Пообходчивей как с ней… шляпу ей сымете… она вас, может еще, и сама проводит, все вам расскажет. И со стариком, где спят, покажет. Надысь я видал… о-ченно сильвировано! Постеля у их голубая, и весь покой голубой, и серебряный… И спять под пологом, с бахромой… сказать, балдахон!..
– «Спальня герцогини Курляндской»! – сказал Хмыров. – Наследнички.
– Но это же… ужасно!.. – воскликнул Поппер.
– Спят-то что? – спросил, ухмыляясь, солдатишка. – Они супруги… уж это как полагается.
– Не то, а… Ждать-то долго.
– Видно, надо играть назад! – перебирая бороду, сказал Хмыров.
– А то погодьте. Враз попадете, она ничего, обходчива. Песни мы им надысь пели, сорок человек… гости были. Наши им песни ндравются, чтобы свист!.. Велела по стакану молока. . . . . . выдать!.. – выругался с оглядкой солдатишка. – Заместо водки!..
– Да к вам-то какое они отношение имеют?! – дернулся-крикнул Вадя.
– Мало что. Всякий отношении. Значит, такой закон, допущены до дела…
– Не-ет, он не дурак… – сказал Хмыров, когда, прощально взглянув на дом, потянулись они аллеей. – «Всякие отношения имеют»!..
Дошли до Трубящей Славы.
– Дотрубилась, голубушка! – сказал разговорившийся что-то математик.
Пошли картофельные поля. По взъерошенной дали их еще копались пригнувшиеся люди, добирали.
– До чего же все гну-сно!.. – воскликнул с тоскою Поппер.
Укропов жевал сухарь. Он всю дорогу молчал. Молчал и Лишин. Когда говорили с солдатишкой, он отошел под сосны, смотрел на дом и что-то шептал – крестился. Плохи были его дела. Хмыров шагал раздумчиво. Дошагал до Поппера и положил руку на плечо.
– Ну, как насчет… «шепота Бытия»?!.
– Отстаньте, Аркадий Николаич… – устало сказал Поппер. – Этот факт…
– …что нет никакого «шепота», а самая-то обыкновеннейшая теща. . . . . .! – выругался нежданно математик, что не шло уж к нему совсем.
– Куда вы… Вадя?!. – закричал Поппер, видя, как поэт побежал от дороги полем.
– Оставьте его… – шепнул в какой-то тревоге Лишин. – Опять это с ним. Недавно зашел ко мне… забился на диванчике… Ужасно, ужасно, ужасно!.. – Лишин потер у сердца. – Потише, господа… скоро очень идем…
Подковылял ослабевший Семен Семеныч: плохо он закусил в дорогу. Поморщился, подморгнул.
– «И пошли они, солнцем палимы»… – хрипленько рассмеялся он. – А то в деревне, бывало, плясовую пели. «Ах, теща моя… доморощенная! Ты такая, я такой… ты кривая, я косой!..»
– Нет, эта не кривая… и очень даже не кривая! – сказал через зубы Хмыров. – А вот насчет косины-то…
– Да что же мы, господа… – всплеснул неожиданно Укропов, – в лесу-то не закусили?!.
Возвращаться не стоило. Вон уж и полустанок, и Вадя выходит на дорогу. И минут через двадцать поезд.
Июль, 1927 г.
Ланды
Я прощался с Россией, прежней. Многое в ней потоптали-разметали, но прежнего еще осталось – в России деревенской.
Уже за станцией – и недалеко от Москвы – я увидал мужиков и баб, совсем-то прежних, тех же лошадок-карликов, в тележках и кузовках, те же деревушки с пятнами новых срубов, укатанные вертлявые проселки в снятых уже хлебах, возки с сеном, и телят, и горшки, и рухлядь на базаре уездного городка. Даже «милицейский» с замотанными ногами чем-то напоминал былого уездного бутошника, – оборвался да развинтился только. А когда попался мне на проселке торгового вида человек, в клеенчатом картузе и мучнистого вида пиджаке, крепкой посадкой похожий на овсяной куль, довольный и краснорожий, поцикивавший привольно на раскормленного «до масла» вороного, я поразился, – до чего же похоже на прежние!..
– Это не Обстарков ли, лавочник? – спросил я везшего меня мужика.
– Самый и есть Обстарков, Василий Алексеич! – радостно сообщил мужик, оглядываясь любовно. – Ото всего ушел, не сгорел. Как уж окорочали, а он – на-вон! До времени берегся, а теперь опять четырех лошадей держит, с теми водится… Очень все уважают. За что уважают-то?.. А… духу придает! Как разрешили опять торговать, сразу и выбег. – «Теперь, – говорит, – я их, сукиных сынов, замотаю!» – Прямо веселей глядеть стало. Значит, опять возможность. Ну, и сами друг к дружке потесней стали, а он вроде как верховод. Сына по партии пустил в Москву… – с левольве-ром ходит! – а он через его товары у них забирает, кирпичный завод зарендовал, коцанерного общества. Чуть рабочие зашумят, он кричит: – «Я сам теперь камунист, сейчас прикрою!» – И молчат. Да что… одна только перетряска вышла. Смирному человеку плохо, а кто повороватей – отрыгаются.
– Значит, хорошего ничего не вышло?
– Кто чего ищет! Может, чего и увидите, хорошего. Да вот… – улыбнулся он и помотал головой, – куда едете-то… пророк там завелся! Самый пророк. Слесаря Колючего помните, в имении за водокачкой смотрел? Перевращение с ним вышло. Самый тот, пьяница. Зимой босиком стал ходить и слова произносит. Какой раньше домокрад был, жадный да завистливый, а теперь к нему сколько народу ходит, – много утешает. Строгие слова знает, очень содействует. Четыре месяца в ихней чеке сидел, убить стращали, а не прекратился. Бабы к нему посещают, чудесов требуют1 А то еще есть, совсем святой, Миша Блаженный, генеральский сын! Этого не могут теперь трогать, с полным мандатом ходит, очень себя доказывает. С этим вышло чудо…
К нам в тарантас вскочил какой-то в форме, с портфелем, – назвал его мужик – «товарищ-штрахаген», – и разговор прекратился.
В знакомом имении я нашел большие перемены. Стариков-хозяев выселили во флигелек, и они как-то ухитрялись существовать. Старый педагог и земский деятель стал шить сапоги на мужиков, а барыня, былая социал-демократка, занялась юбками и рубахами. Хозяйство падало, но присланные на кормление в совхоз пока блаженствовали, проедая остатки.