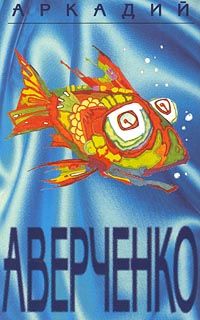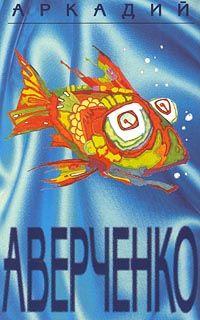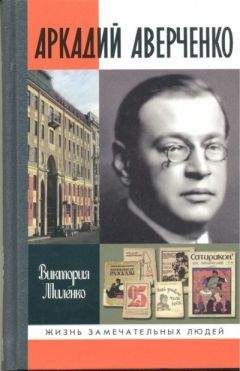— …А что же Спирька на это сказалъ?
— Вотъ еще стану я считаться съ мнѣніемъ Спирьки этого дурака, который…
И снова вы застываете, одинокій, такъ и не узнавъ, что сказалъ Спирька и почему съ мнѣніемъ Спирьки не слѣдуетъ считаться? И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирбкѣ… Кто онъ? Чиновникъ, клубный шулеръ, или просто веснушчатый краснорукій гимназистъ выпускного класса?
Никому до васъ нѣтъ дѣла. Интересы пѣшеходовъ поглощены Спирькой, всѣ домашніе ушли, a любимая женщина, навѣрное, забыла и думать о васъ.
Сидите вы, согнувшись калачикомъ въ углу дивана сбоку или сверху у квартирантовъ робкія руки отбивають мѣрный, хватающій за сердце своей опредѣленностью тактъ, a гдѣ-то внизу проходить еще одна пара, и оставляетъ въ вашихъ мысляхъ она расплывающійся слѣдъ, какъ отъ брошеннаго въ мертвую воду камня:
— Нѣтъ, этого никогда не будетъ, Анисимъ Иванычъ…
— Почему же не будетъ, Катенька? Очень даже обидно это отъ васъ слышать…
— Если бы я еще не знала, что васъ…
И прошли.
Романъ, драма, фарсъ проплылъ мимо васъ, a вы въ сторонѣ, вы никому не нужны, о васъ всѣ забыли… Жизнь идетъ стороной; вы почти какъ въ могилѣ. Конечно, можно встать, встряхнуться, надѣть пальто, пойти къ пріятелю, вытащить его и побродить по улицамъ, оставляя, въ свою очередь, въ чужихъ открытыхъ окнахъ обрывки волнующихъ васъ словъ:
— Ты слишкомъ мрачно глядишь на вещи.
— Это я-то?! Ну, знаешь ли… Вѣдь она его не любитъ, ее просто забавляетъ то, что…
Конечно, можно самому превратиться въ такого пѣшехода, вырваться изъ оцѣпенѣлыхъ лапъ тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться съ мѣста. И сидишь, сидишь, a сердце обливается жалостью къ самому себѣ: Забыли!.. Оставили!.. Никому нѣтъ до меня дѣла.
* * *
Я ли одинъ переживаю это, или бываетъ такое же настроеніе у банкировъ, желѣзнодорожныхъ бухгалтеровъ, цирковыхъ артистовъ и магазинныхъ продавщицъ оставшихся по случаю праздничныхъ сумерекъ дома?
О чемъ же вамъ-то грустить, далекіе неизвѣстные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тутъ причины и не нужно, a все дѣло въ сумеркахъ, звукахъ рояля и голосахъ пѣшеходовъ подъ окнами?
Вотъ и сегодня: сижу я въ сладкомъ оцѣпенѣніи печали и жалости къ самому себѣ, и рояль рокочетъ басовыми нотами у верхнихъ квартирантовъ, и неизвѣстные мнѣ люди за окномъ переговариваются о далекихъ мнѣ дѣлахъ и интересахъ…
Всѣ бросили меня, бѣднаго, никому я не нуженъ, всѣми забытъ… Плакать хочется.
Даже горничная ушла куда-то. Навѣрное, подумала брошу-ка я своего барина; на что онъ мнѣ, — у меня есть свои интересы, a мнѣ до барина нѣтъ никакого дѣла. Пусть себѣ сидитъ на диванѣ, какъ сычъ.
Боже жъ ты мой, какъ то диво, какъ обидно!
Въ передней звонокъ.
О счастье! Неужели обо мнѣ кто-нибудь вспомнилъ? Неужели я еще не старая кляча, всѣми позабытая и оставленная.
Незнакомая барыня въ лиловой шляпкѣ входить въ мой кабинетъ, садится на стулъ, долго осматриваетъ меня при свѣтѣ зажженныхъ мною лампъ.
— Вотъ вы какой! — говоритъ она внимательно меня оглядывая. — Какъ странно: читаю васъ нѣсколько лѣтъ, a вижу въ первый разъ.
Бодрое настроеніе возвращается ко мнѣ (я не за бытъ!).
— Читаете нѣсколько лѣтъ, a видите въ первый разъ? Печально, если бы было наоборотъ, — усмѣхаюсь я.
— Вы и въ жизни такой же веселый, какъ въ вашихъ разсказахъ?
— А развѣ мои разсказы веселые?
— Помилуйте! Иногда читая ихъ, просто, какъ сумасшедшая, смѣешься.
— Вотъ не думалъ. Когда я пишу свои разсказы я не подозрѣваю, что они могутъ разсмѣшить.
— Еще какъ! Вы знаете, почему я пришла къ вамъ? Я пришла поблагодарить васъ за хорошія минуты, которыя вы доставили мнѣ своими разсказами. Ахъ, вы такъ чудно, такъ чудно пишете…
Почему-то дѣлается жаль уплывшихъ сумерекъ, гулкихъ шаговъ и голосовъ невѣдомыхъ пѣшеходовъ и рояля, который тоже притихъ, будто сообразивъ, что онъ уже не въ тонѣ сумерекъ и голосовъ за окномъ.
— Нѣкоторые ваши разсказы я прямо наизусть знаю…
— Вы, право, избалуете меня… Ну, какой же разсказъ запомнился вамъ?
— Я какъ-то не запоминаю заглавій. Однимъ словомъ, о чиновникѣ, который хотѣлъ учиться кататься на лошади, a потомъ упалъ съ нея и его родственники смѣялись надъ нимъ и невѣста тоже… отказалась выйти за него замужъ.
— Позвольте, сударыня… Да у меня нѣтъ такого разсказа.
— Быть не можетъ!
— Увѣряю васъ.
— Значить, я что-нибудь спутала. Ахъ, я, знаете, такая разсѣянная! Совсѣмъ, какъ та старушка въ вашемъ разсказѣ, которая забыла надѣть юбку, да такъ и пошла по улицѣ безъ юбки. Я страшно смѣялась, когда читала этотъ разсказъ.
— Сударыня! У меня и такого разсказа нѣтъ!
— Вы меня прямо удивляете! Какіе же у васъ разсказы есть, если того нѣтъ, этого нѣтъ!.. Ну, есть у васъ такой разсказъ, какъ еврейка выколола въ шутку сыну глазъ, a потомъ повезла его къ зубному доктору.
— Въ родѣ этого: она не выколола сыну глазъ, a просто у него заболѣлъ глазъ; бѣдная мать въ суматохѣ схватила не того ребенка, завернула его въ платокъ и повезла на послѣднія деньги въ другой городъ къ доктору, у котораго эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.
— Ну, да, что-то въ родѣ этого. Мы съ сестрой такъ смѣялись
— Простите, но этотъ разсказъ не смѣшной; это очень печальная исторія.
— Да? А мы съ сестрой смѣялись…
— Напрасно.
Мы молчимъ.
— Я вамъ сейчасъ не помѣшала?
— Нѣтъ.
— Вамъ, навѣрное, надоѣли всякія поклонницы!..
— Нѣтъ, что вы! Ничего.
— И вы на меня не смотрите, какъ на сумасшедшую?..
— Почему же?…
— Вамъ нравится моя наружность?
— Хорошая наружность.
— Нѣтъ, серьезно? Или вы просто изъ вѣжливости говорите?
— Зачѣмъ же изъ вѣжливости?
— Ну, вотъ, вы писатель… Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?
— Отчего же.
— А вдругъ вы всѣмъ женщинамъ говорите одно и то же?
— Зачѣмъ же всѣмъ.
— Я васъ видѣла недавно въ театрѣ, и вы мнѣ безумно понравились. Я тогда же рѣшила съ вами познакомиться.
— Спасибо.
— Въ васъ есть что-то притягательное. Садитесь сюда.
— Сейчасъ. Въ какомъ театрѣ вы меня видѣли?
— Это не важно. Вы, навѣрное, очень избалованы женщинами?
— Нѣтъ.
— Вы меня не прогоните, если я еще разъ приду? Съ вами такъ хорошо… Вы какой-то… особенный.
— Да, на это меня взять, — уныло соглашаюсь я.
— Я знакома еще и съ другими писателями… Съ Бѣлясовымъ.
— Не знаю Бѣлясова.
— Серьезно? Странно. А онъ васъ знаетъ. Онъ вамъ страшно завидуетъ. Говорилъ даже, что вы всѣ ваши разсказы берете изъ какого-то англійскаго журнала, но я не вѣрю. Вретъ, я думаю.
— Бѣлясовъ-то? Конечно, вретъ.
— Ну, вотъ видите. Просто завидуетъ. А я васъ люблю. Васъ можно любить?
— Можно.
— Спасибо. Вы такой чуткій. Я пойду… Ахъ, какъ не хочется отъ васъ уходить. Вѣкъ бы сидѣла…
* * *
Ушла.
И сказалъ я самъ себѣ: будь же счастливъ, не тоскуй. Ты не одинокъ. Сейчасъ ты вкусилъ славу, любовь женщинъ и зависть коллегъ. Тобой зачитываются, въ тебя влюбляются, тебѣ завидуютъ. Будь же счастливъ!! Ну? Чего же ты стонешь?
Я погасилъ огни, упалъ ничкомъ на диванъ, закусилъ зубами уголъ подушки — и одиночество уже грозное и суровое, — какъ рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрываетъ гробъ, — осыпалось и покрыло меня.
Сумерки сгустились въ ночь, рояль глухо забарабанилъ сухими аккордами, a съ улицы донеслись два голоса:
— Эхъ, напьюсь же я нынче!
— Съ чего это такое?
— Манька опять къ своему слесарю побѣжала.
Прошли. Тишина. Вечеръ. Рояль. Опасно, если въ такой вечеръ близко бритва лежитъ.
Зарѣзаться можно.
Безъ сомнѣнія, у Доди было свое настоящее имя, но оно какъ-то незамѣтно стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой годъ — онъ для всѣхъ Додя, и больше ничего.
И будетъ такъ расти этотъ мужчина съ загадочной кличкой «Додя», будетъ расти, пока не пронюхаетъ какая-нибудь проворная гимназисточка въ черномъ передничкѣ, что пятнадцатилѣтняго Додю, на самомъ дѣлѣ, зовутъ иначе, что неприлично ей звать взрослаго кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажетъ она замирающимъ отъ волненія голосомъ:
— Ахъ, зачѣмъ вы мнѣ такое говорите, Дмитрій Михайловичъ?..