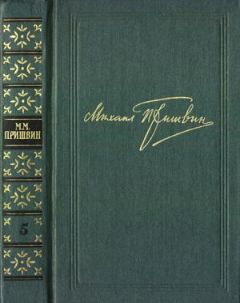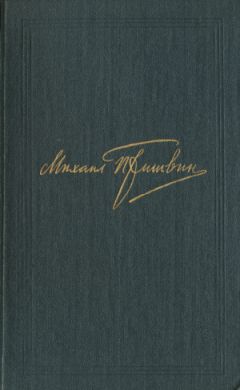Можно сделаться большим художником, имея вовсе даже небольшой талант. Для этого в написанном надо уметь находить вечные строки (в том смысле, как говорят «вечное перо»). По этим удавшимся вечным строкам надо строить новое произведение, искать в новом, что удалось. Так, восходя все больше и больше, надо насыщать свои произведения «вечными» строчками, вечно стремясь к совершеннейшему. И, работая всю жизнь, как я указываю, можно чувствовать себя довольно уверенным. Большинство же работают неуверенно, исходя из таланта, пишут, «как бог дал». Они очень скоро исписываются, мелькнув в обществе «королями сезона» – «бог дал, бог и взял».
Родственное внимание
Чтобы описать дерево, скалу, реку, мотылька на цветке или в корнях дерева живущую землеройку, нужна жизнь человека, и не для сравнения и очеловечения дерева, камня или животного нужна жизнь человека, а как внутренняя сила движения, как мотор в автомобиле. Нужно самому автору в таланте своем дожить до того, чтобы все это до крайности далекое стало близким и возможным для человеческого понимания.
Утрата
Я шел сегодня с тем утренним восторгом в душе, который ищет себе предмета для воплощения и обыкновенно быстро находит в чем-нибудь: может быть, сарыч тяжело и неохотно слетит с влажного дерева, может быть, наградят тебя ели обилием урожая светло-зеленых своих шишек, может быть, заметишь – красный тугой грибок лезет, оглянешься – там другой, третий, и по всей поляне все грибы и грибы…
Я бросился на грибы, собрал их и дальше пошел, не отводя глаз от земли. Я был теперь связан определенной целью исканья грибов, я был весь целиком этим поглощен и больше не мог ничего открывать в природе.
Мысль
Сегодня мороз небольшой, корки не было, и мы, утомленные, только к восьми часам вернулись с гона. Когда измученное тело начинает отдыхать, то мысли приходят в голову все радостные. Мысль тогда понимаешь как явление отдыха тела. И это объясняет, почему мои книги имеют успех в санаториях.
Запомнить, что зимой на рассвете ели бывают совсем черные в снегу.
Мельница Дон Кихота
Когда я читаю о рыцаре печального образа, как он с копьем наперевес мчится к мельнице, я всегда вхожу в положение мельницы: ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон Кихот. Если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно, что рыцарь проломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолотить свое зерно.
Я живо вхожу в положение мирной, беззащитной, всем необходимой мельницы, и всей душой в эту минуту ненавижу я рыцаря, наделенного всеми хорошими качествами, и только смешного, но не страшного.
А он страшен…
В Третьяковке
Утро – яркое, после обеда – жара. Смотрел еще раз Левитана и узнавал в его пейзаже без человека самого Левитана: клади в лесу через ручей, и нет человека, и в то же время чувствуешь, что как бы прозрачной невидимой тенью проходит по этим кладям человек, и этот человек есть сам Левитан. Близко мне, но сумрачно и односторонне, не хватает радости: чтобы виден был человек вне себя от радости, с бесконечно расширенной душой.
Сказка
Сказка – это момент устойчивости в равновесии духа и тела. Сказка – это связь с приходящим и уходящим. Я обдумываю сказку о строительстве Беломорского канала и смотрю на Каменный мост. Его заканчивают, и теперь ясно видно, что всякое строительство, здание ли это, в котором будут жить, мост ли, по которому будут ходить, – есть поглощение будущим настоящего, и эпоха усиленного строительства в истории есть создание будущею. Мое дело в строительстве – писать свою сказку. Смотрю на строителей моста и обещаю эту весну мобилизоваться: да не будет у меня места ни в деревне, ни в городе, мое место там, где созидается моя сказка.
Мой стол
Стол мой запущен, он похож на лес: контуры рисуют умственного работника, а в деталях хаос, ничего не понять никому, кроме самого хозяина. Так выходит в лесу ежик, перебирает листву: он все знает. И так я за своим столом.
Чувство связи
Серая Сова говорит, что из чувства связи со всем миром каким-то образом выходит самоограничение. Это хорошо, я это очень знаю, только называл то же самое смирением. В этом самом ограничении в свете чувства целого зарождается страстная любовь к жизни, а из любви к жизни – потребность родственного внимания. И этому, именно вот этому надо учить людей в наше время, когда все собираются друг друга уничтожать.
Слово и семя
На опушке разговорился с пашущим колхозником о том, что как неправильно в природе устроено: сколько надо выбросить даром семян, чтобы вышел осинник.
– Впрочем, и у людей так же бывает, – сказал я. – Взять хотя бы нас, писателей: сколько слов пропадает, пока из одного что-нибудь вырастает.
– Значит, – заключил мои слова колхозник, – если даже писатели сеют пустыми словами, можно ли спрашивать нам с осины?
Метель
Бывает в душе как будто метель, мысли летят, летят, и никак ни одну не поймаешь, и в то же время нет ни малейшей тоски, и вся эта метель мыслей в душе совершается как бы при солнечном свете. Из этого внутреннего мира, где никак теперь невозможно поймать мысль, чтобы ею заняться, я выглядываю наконец в мир внешний и вижу, что там тоже при полном солнечном свете по серебряному насту тоже перебегают струйки поземки-метелицы.
Необычно прекрасным кажется мир, когда он соответственно продолжает и бесконечно расширяет и усиливает мир внутренний. Я узнаю сейчас весну света по теням: дорога моя примята санями, правая сторона ее – голубая тень, левая – ярко-серебряная. Сам же идешь по санному углублению, и кажется тебе, что так можешь идти бесконечно.
Расширение души
В прикосновении с чем-нибудь новым, невиданным душа ширится, и кажется, ты смотришь на все первым глазом, и вот этим я в свое время широко пользовался: ездил в новые невиданные края и схватывал и питался. «Корень жизни» написан мною исключительно по первому глазу и потому удался.
В этой способности захватывать в себя мир при помощи первого глаза есть предел емкости: после трех месяцев всасывания в себя чего-то нового у меня способность эта прекращается и смотреть ни на что больше вовсе не хочется. Потому-то вначале так боишься пропускать даром минуты: ты знаешь, что время ограничено, задержат тебя по-пустому – и ты навсегда пропустишь.
Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев, ежедневно принимая в себя большую дозу сильных впечатлений, и после того плыть три дня по морю. И вот до чего я был перегружен впечатлениями, что за три дня езды при совершенном безветрии от всего Черного моря сохранился во мне какой-то не очень большой голубой круг.
Личное
Если я занимаюсь дома в часы отдыха каким-нибудь любительством: собака там есть у меня любимая, или птица, или там что-нибудь есть – маленький коврик, который я каждое утро прячу под матрац, а вечером на ночь расстилаю с любовью для своей босой ноги у кровати, и множество всего другого интимно-личного, как у всех, в том числе, конечно, разные мечтанья, желанья, почти беспредметные – так вот, если люблю все это, ценю, невольно придаю какое-то всему этому живому личному особенное значение, то как вдруг все это унизится, и, мало того, стыдно станет за все, когда это личное, бесполезное вдруг предстанет перед глазами общества. И пусть перед этим объективным глазом все мое личное явится, как никому не нужный хлам плюшкинской кладовой, – не в этом дело, а страшно, что ты сам заражаешься этим общим судом, и тебе самому становится стыдно, что ты в такое время занимаешься подобной ерундой. Первый росток личности всегда находится под угрозой: росток еще не окреп.
Так вот, сколько раз, прочитав злобную заметку о своих книгах, проникался я этим самоуничижающим чувством к своей плюшкинской литературной кладовой и сколько раз восстанавливался во всем том своем хозяйстве, когда друзья подавали свой голос за мой хлам.
Доверие к себе
Мало-помалу определяется, что не так уж очень надо гоняться за материалами: довольно взглянуть, и можно писать. Я это понимаю как рост доверия к себе самому. Много изучают и проверяют себя при научной работе, но в искусстве самое главное – доверие к себе, к своему первому взгляду. Только надо помнить всегда, что эта простота восприятия и это доверие к себе обретаются сложнейшим трудом.
Клад человека
Из черноты омутов овражьих, сырых, темноподвальных этажей леса через ольху, повитую хмелем, и крапиву выбираешься наверх к цветущему лугу с бабочками, обставленному громадными сверкающими волнами древесных кущ. Тогда знаешь наверняка, всем своим существом понимаешь вокруг, какие это огромные несобранные богатства, перед которыми ничто все догадки о кладах Ивановой ночи. Напротив, случайно вспомнив о кладах, поражаешься бедности и какой-то низменности человеческого воображения. Вот они – без всякой чертовщины прямо перед тобой лежат не собранные человеком богатства. Не под землей они где-нибудь, а тут вот прямо перед тобой лежат: поди и возьми! Обрадованный, стоишь перед ними и дивишься человеку, не протянувшему еще руки к этим подлинным богатствам, к этому истинному счастью. Сказать бы, открыть, но как скажешь, чтобы тебе не ответили славой, не уничтожили бы всего счастья, приписав его личным особенностям.