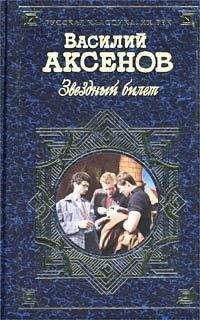— Товарищи! Я знаю, что моя работа противоречит многим солидным трудам и, может быть, даже ранит чье-то самолюбие. Но я считаю — и думаю, что со мной согласятся все, — что во имя нового мы должны научиться приносить жертвы. Новое — это риск. Ну и что? Если мы не будем рисковать, что будет с делом, которым мы занимаемся? Наше дело не терпит топтания на месте, и наш институт — это не фабрика диссертаций. (Это уж слишком.) Новое все равно пробьет себе дорогу. Так во всем. Возьмите футбол. (С ума я сошел.) Когда-то система «дубль-ве» считалась прогрессивной, но сейчас она устарела.
В зале хохот. Смеются аспиранты на балконе, Илюшка держится за живот. Лида уткнулась в колени. Табидзе закатывается.
Шеф разъяренно гремит звонком.
— Новое победит! — говорю я, чувствуя, что погиб, и схожу в зал. Идиот, последний идиот, ради дешевой остроты погубил свою работу.
После меня выступает Табидзе, и объявляется перерыв. В перерыве я не обедаю, а брожу по коридору и без конца стреляю сигаретки. Аспиранты хлопают меня по спине:
— Молодец! Здорово ты его! Будет помнить. Не те сейчас времена, чтобы так давить.
— Не те, это точно, — вяло говорю я и опять куда-то иду. Передо мной вырастает шеф.
— Идите-ка со мной, — говорит он и идет в свой кабинет. — Что это за мальчишество? Что это за пижонство? Тоже мне трибун! Что вы берете на себя? Виталий Витальевич — ученый с мировым именем…
— Подождите, Андрей Иванович, — говорю я нагло (мне уже нечего терять). — Я вас спрашиваю как коммуниста: прав я или нет? Разве можно допустить, чтобы наша наука превратилась в тихую заводь, где будут размножаться дипломированные караси?
И шеф вдруг смеется и кладет руку мне на плечо:
— Чудак ты, Витя. Вообразил себя Аникой-воином. Ту-ру-ру — трубы трубят. Против меня целое войско, а я один, зато храбрый. Погибаю, но не сдаюсь. Ладно. Ты сделал свой доклад — и все. Зачем этот жалкий пафос в конце? Ты как будто принял вызов на участие в грязной анонимной дуэли. Зачем? Твой доклад сказал сам за себя.
Шеф ходит по кабинету.
— A в общем, я рад. Четыре года назад я смотрел на тебя и тебе подобных со смутным чувством. Я не понимал вас. Чего они хотят? Только гаерничать и во всем сомневаться? Теперь я, кажется, вижу, чего вы хотите. В общем-то того же, чего хочу и я.
В коридоре слышен звонок. Начинаются прения по докладам. Шеф говорит:
— А я сначала не понял, отчего такой хохот. Потом мне объяснили. Дубль-ве. Все-таки это возмутительно. Интересно, как меня называют в институте?
— Вас так и называют — «шеф», — говорю я, — а иногда «батя», а иногда «слон». По-разному.
— Ладно, пошли — усмехнулся он. — Я первый выступаю в прениях.
Я колхозник. Нет, вы подумайте только: я стал колхозником, самым настоящим! В конторе мне начисляют трудодни, Алик и Юрка тоже колхозники. Если бы год назад нам сказали, что мы станем колхозниками, мы бы, наверное, тронулись. В «центре» ребята ругаются: «Эй, деревня!», «Серяк», «Красный лапоть» и так далее. Я был «мальчиком из центра», а теперь я колхозник.
Я вспоминаю то время, когда наша компания стала распадаться. Юрка бурно прогрессировал в баскетболе. Алька каждый вечер торчал у Феликса Анохина, где читали стишки. Галка кривлялась в драмкружке, а я остался один и стал «мальчиком из центра». Потом мы снова сплотились во время экзаменов. А теперь я колхозник, «серяк», «красный лапоть», как говорят эти подонки. Много они понимают!
Честно говоря, я вовсе не ликую, что я сейчас колхозник-рыбак. Не могу сказать, что сбылась моя голубая мечта. Моя мечта. Что это такое? Я сам не знаю. Мама мечтала, чтобы я стал врачом. Папа почему-то твердил, что с нас хватит врачей, пусть Дима будет адвокатом. Традиционные интеллигентские мечты. Чтобы я стал адвокатом?! И разве мечта — это выбор профессии?
Надо попробовать по порядку. Первую ночь после приезда в этот колхоз мы ночевали в палатке, а утром явились в правление. Председатель был толстый и добродушный дядька, эстонец. Мы подметили в нем одну особенность. По-русски он говорил прилично, но какими-то газетными фразами. Видимо, учил язык в основном по газетам. Я подумал, что, если все эстонцы говорят здесь на таком языке, мне придется туго. Прямо скажу, я не особенно понимаю этот язык. Русских в колхозе не меньше, чем эстонцев. Колхоз огромный. Он простирается километров на двадцать по побережью и объединяет три или четыре поселка. Промышляют в основном рыбой, овощами и молоком.
Нам дали койки в общежитии для рыбаков. Зачислили нас матросами на сейнеры, но оказалось, что наши сейнеры еще не пришли в колхоз. Их арендовали совсем недавно. Кроме этих новых сейнеров в колхозе было еще два старых и штук пятнадцать мотоботов, но там экипажи были уже укомплектованы. Два дня мы болтались просто так, а потом нас стали использовать.
Меня направили на стройку. Не правда ли, громко звучит? Меня направили на строительство здания для фермы черно-бурых лисиц. Колхоз решил поднажиться на лисицах, и я должен был строить ферму.
В бригаде были русские и эстонцы. Бригадир, типичный эстонец в типичной эстонской шапке, показал мне, что делать, и я стал это делать. Я подавал кирпичи на ленту транспортера. Сложнейший трудовой процесс! Берешь два кирпича, кладешь их на ленту, снова берешь два кирпича и опять кладешь их на ленту. Кирпичи торжественно плывут вверх и там превращаются в стену. Мы строим ферму для лисиц. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Придумали же люди эту дьявольскую штуку — ленточный транспортер. Он не ждет. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Внизу кирпичей становится все меньше, a стенa чуть повыше. Для вас, лисички. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту.
Неподалеку какой-то детина вяло ковыряет ломом старую стену. Ее надо снести, чтобы очистить место. Детина осторожен, боится падающих обломков.
После перекура я попросил бригадира поменять нас местами с тем детиной. Он предупредил, что это очень трудно — ломать такие стены, но я сказал:
— Ничего, это по мне.
Детина, видимо, очень доволен. Он берет два кирпича и кладет их на ленту, берет еще пару и кладет на ленту. И я доволен. Я бью ломом в старую стену, чертовски крепкую стену. Молочу по кирпичам и между ними. Раз, раз, два и три! Я бью в стену, стоя на месте и с разбега, как в своего векового врага. Я остервенел и бью, бью, бью. С грохотом падает и рассыпается огромный кусок стены. Подходит бригадир. Он не понимает, что со мной.
А я бью ломом в старую стену, которая никому не нужна.
Бью ломом в старую стену!
Бью ломом!
Бью!
Может быть, вот оно — бить ломом в старые стены? В те стены, в которых нет никакого смысла? Бить, бить и вставать над их прахом? Лом на плечо и — дальше, искать по всему миру старые стены, могучие и трухлявые и никому не нужные? Лупить по ним изо всех сил? Это не то, что класть кирпичи на бесконечную ленту.
Весело в прахе и пыли с ломом шагать на плече.
Расчищать те места на земле, где стоят зыбучие старые стены.
К концу рабочего дня я сломал всю стену до основания. Я стоял на груде битого кирпича и курил. Рядом в сумерках белела новая стена. Я подумал, что завтра будет веселее класть кирпичи на ленту. Сам не понимаю почему, но так я подумал.
Наконец пришли сейнеры. Нас освободили от подсобных работ, и мы помчались на третий причал. На причале уже околачивалось много народу. Здесь был председатель колхоза, его заместитель и старший капитан колхозной флотилии старикашка Кууль. Незнакомые нам здоровенные ребята уже бродили по палубам сейнеров. На причале вертелись девчонки в комбинезонах. Две-три из них определенно заслуживали внимания. Я сказал об этом Юрке и Алику. Они согласились. Чудаки, неужели они думают, что я всю жизнь буду сохнуть по Галке? Я ведь не Пьеро какой-нибудь, я человек вполне современный.
Галдеж на причале стоял страшный. Мы присели на ящике немного в стороне от публики, закурили и стали посматривать. Море было веселое. Бугристое, холмистое, местами черное, местами зеленое. Все было в движении: тучи двигались в Финляндию, сейнеры покачивались в маслянистой воде, на мачтах текли флаги, недалеко от берега шкодничала орда чаек, старикашка Кууль бегал от сейнера к сейнеру и махал руками, девчонки то сбивались в кучу, то разбегались в разные стороны. В общем, было весело.
Мне стало так весело, как не было весело уже давно. Я очень обрадовался, потому что, когда мне весело, я обо всем забываю и не думаю о том, что еще будет когда-то.
Алик прочитал стихи Маяковского:
Идут, посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.
Впереди — ни рубля…
Арабы, французы, испанцы и датчане
Лезли по трапам
Коломбова корабля.
Все-таки это очень здорово — к месту и не к месту вспоминать стихи. Я обязательно буду теперь запоминать как можно больше стихов.