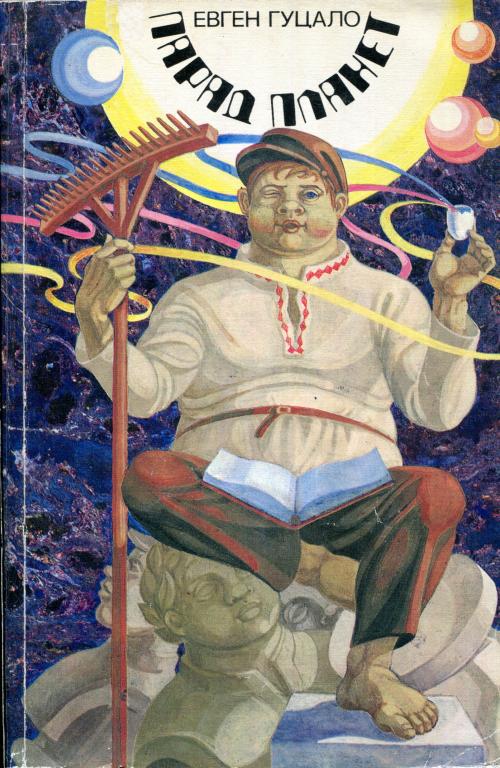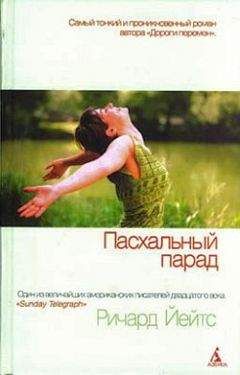в районной газете заканчивалась обещанием: «Продолжение следует». Научные материалистические позиции в статье были лишь обозначены, вместе с тем ее насквозь пронизывал дух субъективизма и преклонения перед предрассудками. Возможно, грибок-боровичок и не чурался предрассудков, возможно, в детстве эти предрассудки повлияли на его психику, на рост и формирование феноменальных способностей, которые уже в зрелые годы превратили старшего куда пошлют в сверхчеловека, но разве не следовало все эти факторы осмыслить с критических позиций? Разумеется, именно с критических позиций!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
в которой бледно и невыразительно рассказывается о великом дне приснопамятных деяний яблоневского чудотворца
От несчастий и умный поглупеет, такая-сякая напасть любому спать не даст… Что ж тогда говорить про старшего куда пошлют, когда эти напасти валились на него так, как ветки на медведя: если ветка маленькая, медведь в сердцах бурчит, а если большая, топтыгин молчит!
Здесь уже говорилось о том, как, бацнувшись лбами, грибок-боровичок с родной женой впали в детство и заигрались во дворе у криницы. Это вызывающее омоложение, да еще визит начальника районной милиции самого товарища Венецийского, шум, поднятый буржуазными органами дезинформации, туманное выступление районной газеты (с этой, будто из области «черного юмора» взятой угрозой «продолжение следует») — все эти факторы привели к заметной, так сказать, макоцветности в голове старшего куда пошлют.
Макоцветность Хомы прежде всех заметила его родная жена Мартоха, которая всегда задним умом была крепка, ибо у нее и голова выросла, и ума много вынесла. А подглядела она, как утром Хома взял кувшин молока — и никак не исхитрится выпить. И так хотел голову свою всунуть в кувшин, и сяк — не лезет голова никак! Тогда взял Хома корыто, вылил туда молоко, поставил посреди хаты — и давай хлебать оттуда, даже без всякой ложки. Мартоха так оторопела, что промолчала, не сказала ни единого слова, словно язык свой одолжила аж в Большое Вербное, а его и до сих пор не вернули.
Старший куда пошлют, позавтракав молоком из корыта, подался из хаты.
Потом в селе долго спорили: это был великий день в жизни грибка-боровичка или, наоборот, грибок-боровичок сам был великим в этот день?..
На подворье бывшей пройдохи и спекулянтки Одарки Дармограихи горел огонь, а сама Одарка в эту минуту колдовала у большого закопченного котла, подвешенного над костром. Теперь, зажив честной жизнью, Дармограиха немного поубавила в весе, но все-таки богатый и роскошный цветник ее тела очаровывал мужской взгляд, как и раньше, и кто бы не подумал, глядя на нее: «Хорошая жена мужа по двенадцати раз на дню обдурит, а такая огненнощекая Одарка — так и без числа!»
— Готовишь ужин? — спросил грибок-боровичок.
И Хома, забыв, что должен спешить на ферму к скотине, принялся помогать Одарке Дармограихе, не боясь сплетен и пересудов людских.
И взяв тушки голубей, которых Дармограиха набила для похлебки, пять славных турманов, бросил их в котел. А потом вылил в него полное ведро воды. А под котел подбросил несколько березовых поленьев, чтобы огонь горел веселее. Хозяйка, очарованная старательностью грибка-боровичка, взирала на него так, будто видела: беда ушла из дому, а любовь — в дом.
Хома принес из криницы еще два ведра воды и залил ее в котел, а сверху накрыл его крышкой, а в огонь опять подбросил дров, и языки огня заплясали ретивее, чем языки всех тещ на свете.
— А теперь, Одарка, смотри!
И артистическим движением колхозника-виртуоза снял с казана горячую крышку.
— Ой! — сказала Дармограиха, испуганно заслоняя лицо руками.
Да и кто б на ее месте не сказал «ой», кто бы испуганно не заслонил лицо руками, если б ненароком перед его глазами из котла, подвешенного над огнем, выпорхнуло пять голубей! Эге ж, пять голубей, которых хозяйка приготовила для похлебки и бросила в кипящую воду. Живые птицы, вырвавшись из котла, захлопали крыльями и взлетели на ветви груши, а потом дружно вспорхнули — и вскоре растворились в ласковой голубизне яблоневского неба.
— Мама за богача, а богач дал стрекача, — растерянно пробубнила Одарка Дармограиха, заглядывая в котел. — А куда же подевались те три ведра воды, что ты сюда залил?
А ведь и правда: из котла голуби улетели, и ни одной капли воды не осталось на его дне. Дармограиха поспешно отставила котел от огня, чтобы он не треснул от жара, а Хома ей:
— О чем тебе горевать, Одарка? Этих самых голубей можешь опять словить, опять перебить и опять в котле сварить!
— Одной похлебкой дважды сыт не будешь… Так можно десять раз замуж выходить — и в старых девах век вековать…
Двери чайной были открыты, под потолком крутился вентилятор с черными резиновыми крыльями, а буфетчица Настя — поперек себя шире, с грудями, что висели будто две переспевших тыквы на плетне, — цедила из бочки пиво в расставленные бокалы и ругала почтальона Федора Горбатюка:
— Чего вы мне тычете пуговицу вместо монеты? Пиво за ломаные пуговицы не отпускаю.
— Чудеса, — бубнил Федор Горбатюк. — Ведь, кажись, клал в карман деньги, никаких пуговиц не было, и откуда они только взялись…
— Дай-ка взглянуть, — промолвил Хома, который вошел в чайную именно в эту минуту. И, взяв пуговицы из руки почтальона, засмеялся так, словно тяжелый камень у него свалился с души. — Да какая же это пуговица? Вовсе не пуговица, а натуральный рубль.
Смотрят зачарованные почтальон Горбатюк и буфетчица Настя — и вправду старший куда пошлют держит на потрескавшейся ладони блестящий рубль, новенький, будто только из Монетного двора. Подкинул залихватски на ладони, попросил:
— А налей-ка две кружки, Настя, а то в горле пересохло, надо промочить.
— Э-э, гляди, какой пришел посол да и упал в рассол, — опомнился почтальон Федор Горбатюк и заговорил нудным и голодным голосом, будто три дня хлеба не ел: — Решил напиться пива не за свои деньги, а за мои?
— За какие твои деньги? — щурится грибок-боровичок. — Ты мне пуговицу ломаную дал, а пиво я хочу выпить за настоящий рубль.
— Эге, говори-рассказывай! — лукаво подмигнул почтальон. — Знают тебя в Яблоневке и во всем мире как облупленного.
— Как же так? — удивлялся Хома. — Я у тебя