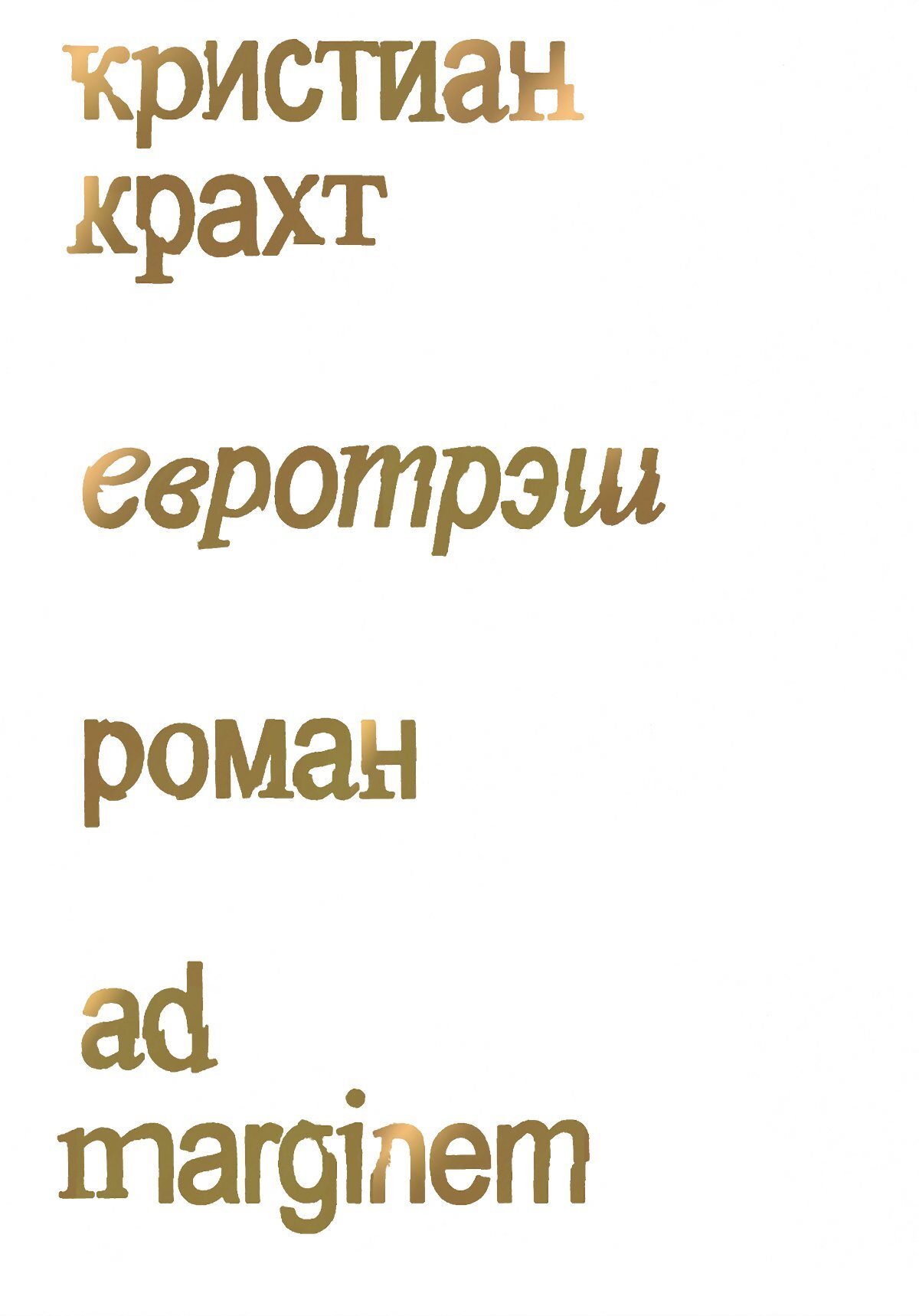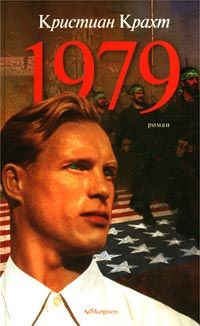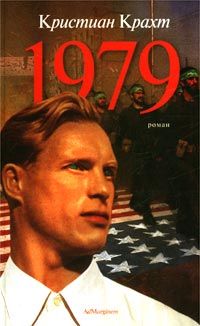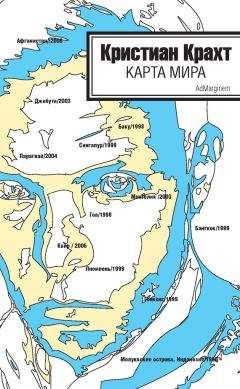не волновало, что отец настолько ее стыдился и оставил ждать снаружи.
Штраус. Западногерманские политики тех времен были поголовно пренеприятные типы. Коль, Геншер, Шрёдер, Ламбсдорфф, все морщинистые, подгнившие и искореженные чудовищной властью, эпигенетически сохранившейся и продолжившейся в их детях. Перед глазами у меня встал копченый угорь на кухонном столе, извлеченный из промасленной газеты, и меня слегка замутило.
– По кому ты больше всего скучаешь? Вот прямо до боли?
Мать подцепила на вилку еще форели и положила в рот. Мне было страшно наблюдать, как она ест. На переднем зубе у нее налипла петрушка.
– Не знаю.
– Признавайся уж! По отцу?
– Не знаю. Отвяжись. У тебя там что-то налипло.
– Где?
– Во рту, на переднем зубе. На, возьми салфетку.
– Спасибо. Так по кому ты сильнее всего скучаешь?
– Пожалуй – ммм – по Дэвиду Боуи.
– Музыканту?
– Да, Боуи. Когда он умер, мне было очень плохо.
– Я его не знаю.
– Но ты слышала про него?
– Он жил в Гштаде рядом с нами, – сказала она. – Я его иногда встречала, зимой он носил белые луноходы. Его жена выглядела точно так же, как он, представь себе, иногда на них были одинаковые лыжные костюмы. Оба блондины, и оба худые, как палки.
– Я всегда обожал его зубы.
– Вот уж никогда не думала, что у Дэвида Боуи были особенно красивые зубы, – сказала она.
– Были, были. Острые, щербатые, торчащие как-то вкось. Каждый раз, как я видел их на фотографии или в фильме, меня трясло от… от…
– От чего?
– От любви, наверное.
– Ах, Кристиан! – мать улыбнулась.
– Был такой фильм с ним, Merry Christmas, Mr. Lawrence, японский, кажется, когда он вышел, я ходил на него раз десять. Мне было шестнадцать лет тогда. И я никак не мог уяснить себе, зачем Дэвид Боуи, который играл британского солдата в японском лагере для военнопленных, нарочно играл так плохо. Я был заворожен его гением.
– Не понимаю.
– Японского офицера, полюбившего Боуи, играл Рюити Сакамото, это японский музыкант, и он тоже играл чудовищно, как мне тогда казалось. Мне было ужасно стыдно за обоих. Я почти не мог на это смотреть, но ходил на этот фильм снова и снова.
– А сейчас?
– Сейчас я думаю, что либо фильм был слишком мелок для Боуи, либо в нем есть какая-то невероятная загадка, которую нужно почувствовать.
– Вот как?
– Боуи несет в себе неразрушимый дух.
– Как актер или именно в этой роли?
– И то, и другое, как ни забавно. И фильм, хоть и очень хороший, неизбежно перед ним капитулировал.
– Иногда я тебя правда не понимаю, Кристиан.
– Я Боуи тоже никогда не понимал.
Я чувствовал, что матери хотелось сменить тему. Ей стало неинтересно. Она взяла вишню из белой миски и положила в рот вместе с черешком. Было видно, как она двигает языком от одной щеки к другой. Она наморщила лоб, а потом вытащила вишню изо рта и положила передо мной на белую скатерть. Ягода осталась целой, а на черешке она языком завязала узелок.
– Вуаля.
– Браво. Этот фокус я помню с раннего детства.
– А ты знал, что нас как раз описывают в книге? Как у Сервантеса? – спросила она.
– Дон Кихот и Санчо Панса.
– Да. Но они были выдуманные. А мы – настоящие.
– Как мы можем быть одновременно выдуманными и настоящими?
– А ну-ка протяни руку.
– Нет уж.
– Да ладно тебе! Давай, – сказала она. Я протянул раскрытую ладонь. Она взяла вилку и кольнула меня.
– Ай!
– Вот видишь. Ты настоящий.
Это напомнило мне, как в детстве я часто слышал по радио, что в Энгадине ожидается снегопад или еще какая-нибудь непогода. Мне всегда слышалось, что снег ожидается в гардинах, и это вызывало бурное, нескончаемое, желтое чувство бессилия, примерно как когда я попытался воспроизвести Швейцарию из Лего в масштабе один к одному. От слов матери я испытал сейчас то же самое чувство.
Она аккуратно положила нож и вилку сбоку на тарелку, так что обе ручки справа выступали за край, а потом сказала, что мы сейчас поедем на глетчер; форель здесь не так хороша, как ей помнилось, Зильматт в Цюрихе всё же лучше, и потом, там не приходится задумываться о реальности, которая и так невыносима.
Я кивнул и почистил рот, обернув указательный и средний пальцы правой руки салфеткой и проведя ею несколько раз по губам. Бутылку дешевого вина она выпила в одиночку. Я покосился на часики у нее на запястье, была половина одиннадцатого. Солнце стояло высоко. Она положила на скатерть тысячефранковую купюру и поставила на нее пустой стакан, чтобы не сдуло ветром. Свою последнюю пластинку Дэвид Боуи назвал «Лазарь», она вышла за два дня до его смерти.
Вдалеке показалась парящая в воздухе гондола канатной дороги. Это была прямоугольная металлическая коробка очень непрочного вида, с полностью застекленным верхом; она крепилась на стальном канате с помощью специального крюка и медленно ползла вверх. Когда вся эта конструкция приближалась к одной из опор, торчавших вертикально из камней горного массива, кабинка на мгновение соскальзывала вперед и вниз, а потом, резко качнувшись, возвращалась в состояние равновесия, словно желая напомнить, что она не просто движется неизменным путем наверх, но еще и преодолевает при этом силу тяготения, которая с большим удовольствием расплющила бы гондолу и ее драгоценное содержимое об отвесный склон.
Мы подымались всё выше, воздух становился разреженным. По обеим сторонам от нас скалистые пропасти устремлялись обратно в долину, как будто весь подъем был лишь игрой света или перспективы. Мать приняла полтаблетки золпидема уже перед посадкой, а потом, когда кабинка качнулась особенно сильно, и вторую половину. Она попросила меня рассказать ей историю, скорее, пожалуйста, потому что ей ужасно страшно. Она вцепилась в мой локоть, я порылся в памяти, и моему внутреннему взору предстала сперва стеклянная кабина, а потом история Роальда Даля.
– Как ты знаешь, мама, Роальд Даль был боевым летчиком, он учился в Найроби и Каире.
– В Первую или во Вторую мировую войну?
– Во Вторую, конечно.
– И что дальше?
– Он как-то назначил встречу в Ливийской пустыне, но, видимо, неверно записал координаты, и вот он летал над пустыней один на своем глостере «Гладиатор», а внизу ничего, только песок без конца и края. Стемнело, и у него кончился бензин…
– Керосин…
– Да, конечно, керосин. В какой-то момент стрелка манометра встала на нуль, а он так и не нашел своего приятеля и вынужден был посадить самолет куда