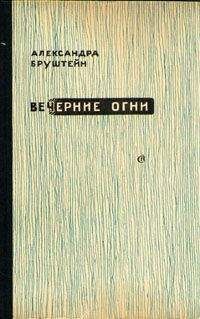Скудные посылки могли многое нашептать зоркому сердцу... в них была наивность пионерских новогодних подарков моего детства: парочка мандаринок, кулек конфет, чаще "подушечек", слипшихся в карамельную горку, что еще? Носки, конверты для писем, шариковая ручка (подлежит изъятию!), консервы с килькой в томате (вскрыть!) и прочая смиренная бедность.
Так вот, в тот холодный декабрьский денек накануне Нового года я досматривал посылки единолично без дежурного офицера и, признаюсь, не проявлял никакого рвения в обыске. Я не дал команды взламывать сигареты и кромсать ножами консервы (ну кто и каким образом станет прятать деньги в банку с частиком?) и скорее ради проформы взял в руки теплые шерстяные перчатки и так же машинально приложил их к руке. Я носил кожаные из мягкой чернильной лайки, офицерские, но для морозной уральской зимы они не годились, а годились как раз вот такие пухлые, теплые пирожки для рук, с опушкой.
Мой жест был тут же замечен бедным солдатиком, который стоял навытяжку в ожидании минуты, когда кончится шмон:
- Берите себе, товарищ лейтенант, - сказал он, обреченно улыбнувшись.
- Нет, нет... - буркнул я, продолжая тем временем жадновато тискать обновку и запихивать руку в теплую норку.
- В самый раз, товарищ лейтенант, - одобрил мой выбор еще и сержант, проводивший досмотр.
- Точно в самый раз, - обреченно поддакнул солдатик.
В этом подначивании офицера совершить малую подлость не было ни умысла, ни даже желания, а только лишь тоскливая машинальность холуйства, тусклая копоть общей неволи скованных одной цепью рабов и надсмотрщиков.
Но тем более мне - гурману, блин - не пристало клевать столь дохлого червяка.
Однако...
- Тут еще одна пара, - сказал солдатик, показывая рукой на еще пару перчаток, но явно похуже, и... наш герой дрогнул. Сунув воровски перчатки в карман шинели, я продолжил досмотр, но моральное поле мгновенно переменилось, солдатик встал более вольно, сделал полшага к столу и хотя по-прежнему не касался вещей, но смотрел за шмоном уже с большей пристальностью, чем минуту назад, а сержант, наоборот, явно умерил свой пыл и, ткнув рукой для проформы в углы ящика, громко объявил, что посылка "чистая", и сообщнику-лейтенанту пришлось кивком закрепить эту мгновенную сделку с совестью.
В отвратительном настроении я вернулся из части в свой домик на курьих ножках в новых перчатках, о, как только я натянул их на пальцы, стало ясно, что они не фабричные, а домашние. Нежно связанные матерью для сына, бедствующего в оковах узилища, без узелков, плотные и жаркие, они буквально жгли мне руки. И, как видите, чувство стыда тенью от лодки Харона благополучно переплыло вместе со мной через темные воды тридцати лет, и до сих пор паутина ожога покрывает руки автора.
Переведем дух.
Росская муза чрезвычайно брезглива.
Отпрянув от подлости художника, она улетает со склона Парнаса розгой Кастальского ручья в небесные дали как китайский дракон, после чего склон разом становится гол без ряби цветов и тени пчелиных жужжаний, и рот аэда забивается до самых гланд горстью песка.
Сегодня ситуация стала еще строже.
Двадцатый век проявил к творцу невероятное пристрастие, ты должен быть нравственно одарен! Прежде такое не требовалось, и Оскар Уайльд вполне справедливо мог заявить, что отравитель может статься вполне приличным писателем и смерть невинного от яда, принятого из писательских рук, ни в коем случае не может быть аргументом против качества прозы отравителя.
Освенцим все отменил. Грозная фраза Теодора Адорно, написанная огненными буквами ("После Освенцима никакая поэзия в принципе невозможна"), взыскует к еще большей пристрастности к сердцу поэта и подобных ему:
ты должен быть нравственно гениален.
Вот приговор последнего времени.
Он окончательный и обжалованию не подлежит.
Еще не понимая, что руки отрублены мистическим лезвием, не догадываясь, что пишу, зажав карандаш зубами, как Николай Островский, я уже с ужасом взирал на осколки, в которые стал на глазах превращаться роман о моралисте.
Я долго мучился, не зная как избавиться от проклятых перчаток (хотя, наверное, с неделю обувал в перчатки свои копыта, потом пихнул в ящик)... Выход нашло пьяное сердце, возвращаясь с какой-то городской попойки на городской вокзал катить в Бишкиль... Я шел по улице и вдруг заметил краем глаза несколько горящих полуподвальных окон, за которыми проступали пятна убогой жизни: марлевые занавесочки на протянутой нитке, усталая вата на подоконнике, украшенная к Новому году осколками битых елочных игрушек (красота поневоле), пожалуй, здесь будут рады любому подарку, подумал я и, сдернув офицерские перчатки, присел на корточки перед раскрытой форточкой, кинул пару вглубь комнаты на пол и поспешно ретировался. Как приятно было шагать по морозу с голыми пальцами...
Как всегда, неприятности приходят с курьером из штаба: сначала бег по снежному насту, затем стук солдатских сапог по крыльцу, следом барабанная дробь кулаком по двери, и вот я уже стою в очереди к стойке регистрации аэропорта, с авиабилетом до Перми в руках. Там послезавтра начинается закрытый политический процесс над Воробьевым и Веденеевым, по которому я прохожу свидетелем. В случае неявки, грозит повестка в кармане моего кителя, мне будет то-то и то-то. Впрочем, несмотря на досады политического фарса, я рад возможности слетать за счет СССР домой, обнять мать, выпить с друзьями красного сухого вина, не известного в армии, снять форму и облачиться в гражданский костюм, но...
Но в аэропорту, когда я уже прошел регистрацию и шагал в сторону выхода к летному полю, тревожный радиоголос объявил, что гражданина меня, вылетающего рейсом таким-то в Пермь, просят пройти к справочному бюро. Ага! Госбезопасность передумала отправлять свидетеля К. на процесс, - ну и фиг с вами, - иду в зал ожиданий, где попадаю в фальшивые объятья капитана Самсоньева.
Что стряслось? Иронизирую я по поводу реприманда. Скончались присяжные заседатели?
Капитан морщится: лейтенант, всему свое время.
Мы выходим к стоянке такси, где нас поджидает черная гэбэшная "Волга" с шофером, и мчим обратно в город.
Тут надо сделать одно пояснение: попав в объятия госбезопасности, - вот уже третий год, - я был почти равнодушен к собственной участи.
Процесс? Черт с вами, пусть будет процесс.
Армия? Черт с вами, пусть будет армия.
Дисбат? Черт с вами, суки, пусть будет дисбат.
Посадили в самолет? Сняли с самолета? Повезли? А ни фига.
Эта азиатская черта гадливой покорности к собственной участи необъяснима и для русского читателя неинтересна.
Мы ленивы и нелюбопытны, чертыхался Пушкин. В первую очередь к самим себе.
Сказать ли?
С другой стороны, порой мне льстит внимание КГБ к моей персоне, так частная жизнь становится поводом для истории.
Мы выруливаем на автостраду и через полчаса быстрой езды попадаем в любимый ресторан политической полиции того времени "Южный Урал" на первом этаже одноименной гостиницы. Здесь хорошо отлажена система прослушки контрольных мест. Самсоньев сетует на голод, усаживается за резервированный столик, с которого официант из сексотов мигом смахивает табличку "столик заказан".
Как всегда, товарищ капитан?
Как всегда, а моему визави лейтенанту дайте наше меню.
Мне вручают меню для своих, загримированное под комплексный обед с копеечными ценами.
Блины с икрой - 1 рубль 16 коп., то есть и тогда бесплатно.
Берите все, чего душа пожелает, командировка отменяется, гуляем.
И все-таки, объясните зигзаг удачи? Настаиваю я, мельком листая меню, где горят рекламным неоном марки вин и коньяка.
Все просто, отнекивается Самсоньев. Голос Америки выдал в эфире дату начала процесса, а такие точные вещи у нас не любят. Где-то случилась утечка информации, и Москва, наложив в штаны, перенесла процесс с зимы на осень.
Вы никому не звонили?
Товарищ капитан, отрезвитесь коньячком, о начале процесса я узнал сегодня утром. В штабе мне вручили предписание и не дали даже собрать вещи, в город доставили на штабной машине, а в аэропорту ваш усатый сотрудник вручил мне билет. С меня глаз не спускали. Вон он, кстати, случайно сидит за столиком у эстрады. Только усы отклеились. Поздоровайтесь. Позвонить в Нью-Йорк я бы никак не успел, да и не знаю номера телефона.
Голос Америки ведет пропаганду на Россию не из Нью-Йорка, из Вашингтона, заметил Самсоньев и, поглядев в сторону усача, покачал головой: эх, Вася, Вася...
Тут я, пожалуй, впервые раздраженно высказал вслух капитану госбезопасности то, что он, наверное, понимал и без меня (вот эта тирада):
Товарищ капитан, не скрою, я был удивлен, увидев, что в органах мало дураков. Это большинство "недураков", и вы в том числе, не можете не понимать, что вся антисоветчина нашей пермской компании не стоит и выеденного яйца. Мне решительно наплевать на природу политического устройства России, и, как Теннесси Уильямс, я готов повторить, пусть будет по утрам чашка кофе со сливками, остальное не важно. Почти не важно.