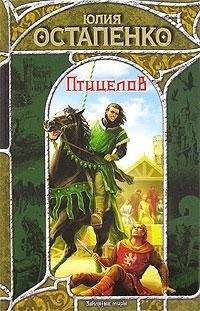красноречиво высказывала по нашему адресу, но до меня всё плохо доходило, доплёлся до кровати и рухнул.
Утром я не мог остановиться, пересказывал вчерашние приключения. Бабушка моя, надо сказать, была характером и даже немного внешне похожа на всеми любимого в те времена актёра Николая Крючкова, только в женском воплощении. Ещё и курила. В ней совмещалось много несовместимого. Она сидела, смотрела, как я ем, и подтрунивала над всем, что я говорил. От ночного гнева у неё и следа не осталось.
В тот день мы с моими друзьями из нашего двора ходили купаться на озеро в парке. Я рассказывал о своих приключениях, мне завидовали. Накупались до одури. Вечером я не удержался и сбегал взглянуть на подоконник — птицелова не было. А на другой день приехал мой отец. Пора было мне уезжать домой. До отъезда мы с отцом целый день бродили по городу, по магазинам, он что-то покупал по какому-то списку. К Майе я забежал ненадолго под вечер, попрощаться. Она расстроилась.
— Как жаль! Только-только к тебе привыкла, и на тебе! Мне кажется, мы в чём-то похожи, ты бы мог мне быть младшим братом. Жалко. Ну, что ж, даст Бог, ещё свидимся, может быть, ещё и попутешествуем, и гавайскую гитару послушаем, ты же будешь приезжать?
— Да, конечно. Наверно, на зимние каникулы приеду.
— Дай адрес, если выйдет газета с нашими фотографиями скал, я тебе её вышлю.
Майя дала блокнотик, я вписал в него свой адрес и стал прощаться:
— Ну, до свидания!
Я собрался уходить, уже взялся за дверную ручку.
— Подожди минутку!
Майя взяла с подоконника птицелова и вручила мне.
— Это тебе.
Я запротестовал:
— Наверно он дорогой, вам потом будет жалко!
— Забыл? Дарить надо то, что жалко! Пусть он станет моим Чрезвычайным и Полномочным послом в твоей комнате. Камень с цаплей уже исполняет обязанности твоего посла у меня. Будем считать, что у нас с тобой установлены дипломатические отношения. Вспоминай меня, ладно?
Я шёл домой, нёс статуэтку в руке, посматривал на неё, и была у меня в душе какая-то странная смута, смесь грусти и радости. Казалось, от этой маленькой фарфоровой фигурки исходили невидимые лучи. Лучи приязни. И в целом мире только я один знал, чьей.
Увы, дальше наши жизни потекли по очень удалённым друг от друга руслам.
В августе мне пришла бандероль с газетой, в которой был очерк и фотографии Майи. На одном из снимков я увидел себя — маленькая фигурка на вершине скалы. Лица, ясное дело, толком видно не было, но я-то знал, что это я. Эта газета и поныне у меня. Потрёпана, правда, показывал всем друзьям. Я тогда тоже написал письмо. Потом после долгого перерыва пришло её письмо уже с ленинградским обратным адресом. Майя писала, что в связи с болезнью матери вернулась в Ленинград. Кота Августа взяла с собой. Я тоже что-то написал. Теперь уже не помню, как это вышло, но мало-помалу переписка наша сошла на нет. Чтобы костёр не погас, нужно подбрасывать дровишки. Жизнь же кружит головы, ослепляет, оглушает, увлекает, не даёт опомниться, в общем, несётся куда-то галопом. Обернёшься — позёмка. Вереница лет пролетела, вереница мелких и крупных событий пронеслась. Целая жизнь прошла. Телесная оболочка поистрепалась. Ладно, ничего, однако, держусь. Птицелов зато уцелел во всех передрягах и ни капли не состарился — та же лучезарная улыбка на женственном лице. Однажды я, правда, уронил его, но упал он удачно, откололся только край клетки. Я так старательно всё приклеил, что трещин почти не видно. Пришлось извиниться перед Чрезвычайным и Полномочным послом.
Известно, в наши карты судьба смотрит, как в свои, в её же карты никому заглянуть не дозволяется. Неожиданно в самом конце «нулевых» в разгар лета мне выпало съездить по делам в Ленинград (уже Санкт-Петербург). Я был очень рад этой нечаянной удаче, много лет хотелось мне побывать там. Конечно же, я не мог не вспомнить о Майе: жива ли? Взял с собой птицелова. Дела у меня сложились хорошо, время свободное оставалось. До странности легко я нашёл её телефон и адрес. Но тут на меня напали страхи: больше полувека прошло, возраст никого не щадит, ворошение прошлого по-всякому может подействовать. Решил не звонить. Нашёл дом, подъезд, сел на скамейку: вдруг пройдёт, вдруг узнаю. Действовать буду осторожно. Сижу. И тут минут через 30 вдруг слышу:
— Севастьян, э-э, Севастьян…
Глаза поднимаю — открыто окно на втором этаже и в окне… Я всмотрелся: Боже мой, Майя! Узнала меня! Кричу:
— Да Сева я, просто Сева!
— Ну, заходи же, заходи, так и будешь сидеть до вечера?
Я поднялся, открыла мне дверь настоящая бабуся из сказок Шарля Перро. Белая голова, морщины. Но глаза не изменились и голос всё тот же. До жути.
— Сева, боже ты мой! Как я рада!
Я наклонился, она дотянулась до щеки, поцеловала.
— Майя, как это вы меня узнали?
— Не знаю. Честное слово, не знаю. Ходила по кухне, вдруг кольнуло выглянуть в окно, смотрела, смотрела и опять кольнуло: «Уж не Сева ли?» Чудо, ей-богу! Сама не пойму. Просто чудо!
Майя засуетилась, не знала, куда меня усадить, конечно же, поспешила поставить чай. У меня отлегло. Страхи оказались пустыми.
Сидели, вспоминали то давнее, кажущееся уже почти приснившимся лето. И хлебный ларёк, и грампластинки, и скалы, и ужин под звёздами, и кота Августа, и хитрый приём с мысленным погружением в понравившуюся картину. Я даже рискнул спросить про пластинку «Журавли», почему Майя её не захотела слушать. Она рассмеялась и сказала:
— Ах, это! Да просто это была любимая пластинка мужа. Только и всего. Тогда у меня ещё не зажили сердечные раны.
Потом она рассказала о себе, о недавно умершем втором муже, о своих двух дочерях и трёх внучках — сплошные девочки, прямо колдовство какое-то! Но зато когда соберутся, я на седьмом небе — такие весёлые, да умные, да красивые!
Квартира была недалеко от центра, в доме старой постройки — нечаянный патриархальный островок неторопливости и спокойствия среди водоворотов и опасных течений начинающегося 21-го столетия. В тихом углу Майи коротали свой век и барометр, и парусник, и прочие старые вещицы, вплоть до пузатого кофейника. Даже мой камень красовался на полочке. Было странно видеть их — те же самые, абсолютно не изменившиеся, как будто и не было никаких пяти десятилетий! Даже какая-то космическая несправедливость почудилась: мы, люди, венец Творения — всего-навсего бабочки-однодневки рядом со своими вещами. Я достал из портфеля