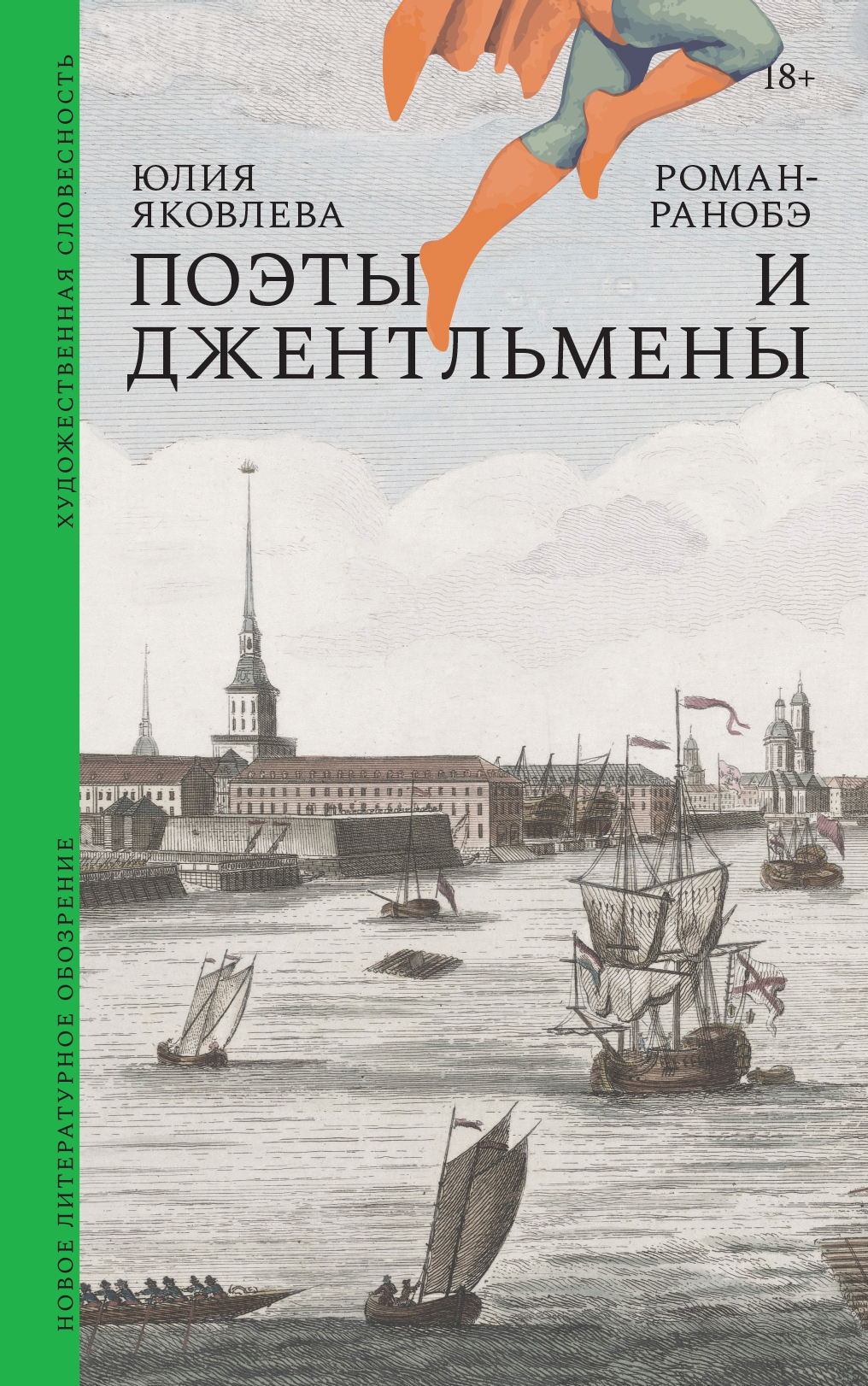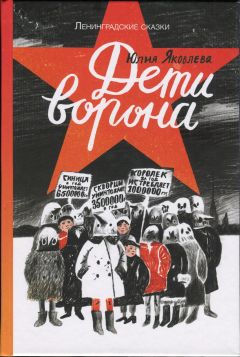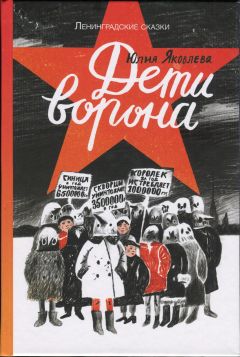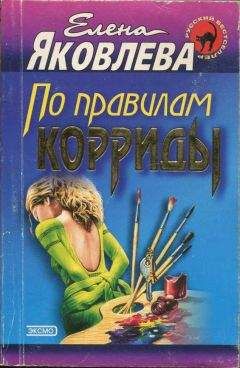перстень с изумрудом, как делал всегда в минуты свидания с музой, ибо не писать он не мог, как не мог не дышать:
– …Воскликнул виконт, – повторил Пушкин. – Побледнев.
Стеклышки тут же склонились над столом, голова показала идеальную ниточку пробора в завитых волосах. Пушкин возобновил диктовку:
– Догадка, как молния, поразила его… Черное платье устремилось прочь…
Человек чести, Пушкин со всей серьезностью воспринял предупреждение доктора Даля: первая же опубликованная строка могла его выдать. Но эти – он был уверен – выдать его не могли. И до сих пор не выдали, одаривая, впрочем, всеми хлопотами и радостями вдохновения, без которых он не мог жить.
Не говоря о деньгах. Оплата была построчной. Три франка за строку.
Это вдохновляло на обильные диалоги. Простое «да» или «нет» – и три франка в кармане.
Перо танцевало мелкими шажками, поклевывало в чернильнице. Бумага быстро покрывалась чернильными грядками. Завтра все это выйдет в газете. «Продолжение следует». Не изменит ничьей жизни – но и ничьей не погубит. Вот что было для него важнее даже денег. Беллетристика! Какое милое, стрекозиное слово. Веселая, ветреная любовница. Не лишит сна. Не отяготит совесть. Не будет ждать от тебя не пойми чего. Встречи с ней жадно ждут каждый день. А прочтя, выбросят вместе с газетой – и на следующий день забудут. Чтобы ждать опять. Наслаждение!..
И Пушкин энергично принялся дальше – под скрип усердного секретарского пера (ему, чернорабочему, платили поденно):
– Виконт бросился в погоню.
Но события за стеной отвлекали его ум от виконта. Пушкин был человеком чести и джентльменом. А значит, не мог сделать то, чего ему так сейчас хотелось: подкрасться на цыпочках к двери и припасть ухом к замочной скважине.
Тем более в присутствии стенографиста.
А послушать стоило. Ибо в сопредельный кабинет вошел камердинер, сделал на всякий случай постное лицо и доложил:
– Господин Дюма, к вам дама.
Толстяк повернулся в кресле так живо, что оно под ним пискнуло:
– Актриса?
– Вряд ли. Ее туалет показался мне, мягко говоря, старомодным. Ни одна парижанка не даст себя так изуродовать. Тем более актриса.
– Не парижанка? – страшно удивился Дюма. – А кто?
– Весьма настойчивая особа.
– Американская журналистка, – решил загадку Дюма.
Камердинер пожал плечами:
– Для американки больно манерная.
– Хорошенькая хотя бы?
– Под вуалью.
– Хм. Франсуа, – толстяк постучал себя по лбу, – много ума не надо, чтобы сообразить. Ответ простой. Она аристократка! Графиня? Может, герцогиня. Все они привыкли командовать и строят из себя недотрог. Это ничего не значит. Ну что же ты стоишь? Зови ее, зови!
Камердинер почтительно согнул стан и вышел.
Дюма оживился. Под вуалью! Он был заинтригован. Зачем бы женщине скрывать лицо? Страшна, как нильский крокодил? Вздор. Все его поклонницы прекрасны – ведь они ЕГО поклонницы.
Он застегнул на жилете пуговку (пузо тут же расстегнуло ее и вывалилось). Огладил ладонью войлочные кудри, доставшиеся от чернокожей прабабки (они тут же встали опять гривой). Закинул в рот мятный леденец и занес перо над чистым листом бумаги, чтобы мизансцена была понятна с первого взгляда даже из-за плотной вуали: великий Дюма за работой. Он уставился в пространство. Погружен в чистые воды фантазии, унесен воображением прочь, в мир приключений.
В воздухе запахло лавандой. Дама вошла.
«Что это она молчит?» – растерялся Дюма. Ибо привык, что дамы не мешкали с комплиментами. Да и с панталонами тоже. А корсеты он сам расстегивал им так ловко, что никакая горничная не сравнится.
Джейн, по правде сказать, тоже растерялась. Нет, она, разумеется, знала, что популярность идет рука об руку с достатком. Но. Кабинет поразил ее. Он сочился роскошью гуще, чем она могла вынести. Все говорило об аппетите к жизни, вульгарном и жадном. Все подтверждало, что этому аппетиту соответствовал просторный желудок, где всегда найдется место для еще ломтя, еще ложечки, еще глотка, еще кусочка, да непременно обмакнутого в жирный соус. Каждое кресло, каждая панель, каждая лампа, канделябр, подушка кричали: смотри на меня! Остин передернуло, как будто за шиворот ей опустили лягушку. Платье ее зашелестело. Толстяк поднял кудлатую голову. Обернулся. Расплылся:
– Дорогая мадам.
Он был под стать кабинету. «Совершенно точно не джентльмен».
Плоть, созданная, чтобы всасывать, впитывать, откусывать, смаковать, глотать. Толстые губы, толстые красные щеки, выпуклые глаза, огромный живот, мощный зад. От всей его фигуры, как от печи, пыхало жаром.
Остин на миг опустила глаза. Вульгарен, но… Но его истории! Какие огненные повороты, какое тонкое лукавство линий, какое увлечение! Вот в чем беда.
Она решила последовать совету, который выручал многих леди в положениях и похуже этого: закрыть глаза и думать об Англии.
***
Пушкин услышал, что бурный разговор за дверями в смежном кабинете стих. Непринужденно, будто занятый мыслями, отошел опять к окну, продолжая диктовать:
– В самом деле, монсеньор? То есть виконт… …воскликнула маркиза… простите, то есть графиня…
Палец Пушкина замер, удерживая штору. Увиденное озадачило его. Внизу круглая шляпа впорхнула под квадратную крышу экипажа. Вуаль, как дым из трубы, летела следом. Дверца хлопнула с пушечным звуком, прищемив край вуали. Лошади сорвались сразу в галоп.
«Мой бог… Что произошло?» – Пушкин попытался заглянуть дальше, но нос уперся в прохладное стекло.
Дверь позади него распахнулась. Толстяк на пороге тяжело дышал, как в преддверии апоплексического удара. Жесткие курчавые волосы стояли дыбом. Молодой человек понятливо вскочил, стащил очки, отложил перо. Вытек из комнаты, как призрак. Неслышно затворил дверь с другой стороны.
Толстяк упал в нагретое стенографистом кресло.
– Осторожнее… – не успел предупредить Пушкин.
– А, черт возьми! – Дюма, пыхтя, приподнял массивную ляжку, вытянул из-под задницы раздавленные очки. Они были похожи на смятого комара. Бросил их на стол:
– Прошу прощения.
– Ради бога. Они все равно не мои. А стенографиста.
– О, Александр! – И Дюма выдохнул с бегемотьим звуком.
Всякий раз, когда два Александра сходились в одной комнате, сходство бросалось в глаза. При всем их различии. Один был толст. Другой тонок. Один был высок. Другой – скорее нет. Один был шумен, другой – сдержан. Один неряшлив, другой опрятен. Тем не менее, когда они, как сейчас, глядели друг на друга, в лице каждого отчетливее проступали черты, которыми каждый был обязан далекому жаркому континенту своих предков.
Дюма кивнул на поломанные очки, что лежали на столе:
– Вообразите, весь Париж считает этих молодых людей моими неграми.
– Неграми?
Пушкин оперся задом на стол. И в свою очередь извлек из-под зада очки стенографиста – теперь уже сплющенные окончательно.
– Ха! Единственные негры в нашем предприятии – это вы да я. Меня один болван, кстати, в клубе вчера попытался поддеть. Мол, правда ли моя бабка была черной с Гаити. Всех это почему-то до сих пор будоражит. Они думают, я скрываю. Стыжусь! Что меня это смутит!
– Что же вы ответили?
– Разумеется, правду. Моя бабка была черной. А прадеды, добавил я, обезьянами. Таким образом, сказал я ему, моя родословная началась там,