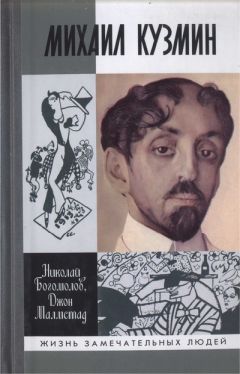Глава шестая
Снова раздавшийся звонок по коридору заставил понизить голоса и без того говоривших вполголоса четверых людей в узкой уборной с цветами на некрашеном столе. Олег Феликсович беседовал с каким-то человеком в острой бороде и вихрах, бархатными брюками напоминавшим уже вышедший из моды тип художника.
«…нужно почувствовать аромат этой вещи, ее серо-синий тон женской страдающей души… а? Мы это все обдумаем, не так ли? Это может выйти неплохо».
Тот, тряхнув кудрями, заговорил: «Я имею некоторые мысли для костюма Варвары Михайловны! Цвета грязноватой раздавленной земляники, так: юбка, потом другая ниже колен того же цвета, на ней расходящаяся грязно-кирпичного, сверху tailleur ярко-зеленого веронез, белый жилет… а? Жалко, что действие происходит в Норвегии, а то у меня есть дивный проект с пальмами».
— Это ничего, главное — аромат вещи. Действие можно перенести — вы покажите ваши пальмы. У Комиссаржевской перенесли же «Зобеиду» из Персии в Тифлис и вместо персидских дали еврейские платья.
«По-моему, там второе действие перенесено даже не в Тифлис, а в отдельный кабинет покойного „Альказара“…» — заметил Демьянов улыбаясь.
Давши художнику уйти, Темиров обратился к сидевшему озабоченно за столом режиссеру.
— Это не будет нескромностью, любезный Олег Феликсович, спросить у вас, что у вас идет, это скандинавское чудодействие с пальмами или «Отчий дом» Зудермана?
«„Отчий дом“? от кого вы слышали?» — встрепенулся тот.
— Успокойтесь, от своих, от Васи-маляра, который, кажется, ставит Зудермана. В обществе же только и говорят о скандинавском.
«Это — тактика, Николай Павлович, нужно возбуждать интерес… Вы этого не поймете…»
— Да, но ведь предвыборный прием уток едва ли действителен несколько раз…
Вошедший Валентин прервал разговор, со вздохом опустившись на скамейку после рукопожатий.
— Томишься? — спросил Демьянов. — Ну, как вчера? Я не знаю, в кого именно ты влюблен, но ведь вчера были все претендентки, помнится?
— Мы возвращались уже утром, зашли в собор купить просвиру и ели ее с молоком в сливочной. Она — прелестна, у нее дивные глубокие глаза и ангельская улыбка. Ну, я не стану продолжать, — рассердился он, заметив улыбку слушавших.
— Я слушаю с живейшим вниманием, — бросил вдруг как-то омрачившийся Демьянов, закуривая папиросу. — Скажите, Темиров, не будет ничего иметь Мятлев, если я посвящу ему свою последнюю вещь? При работе я все думал о нем… об его искусстве: это будет заслуженно.
«Ах, он будет в восторге, он бредит вами и только ищет, где бы познакомиться».
— Это так легко сделать, — промолвил Михаил Александрович, — он не согласился бы поехать с нами завтра четвертым?
«Я передам; наверное да. Ну, мне пора», — простился Темиров, уводя режиссера под руку.
После молчания, Валентин тихо заметил, будто про себя: «Говорят, нельзя верить словам Мятлева».
Демьянов вопросительно посмотрел на юношу.
«Говорят — он тщеславный, суетный».
— Что за выпад? какая муха тебя укусила? Он — твой соперник у Овиновой, что ли?
«Нет».
— Ну, так что же? ты его не знаешь.
«Отчего ты волнуешься? разве ты мог его знать? может быть, я забочусь о тебе».
— Обо мне! вот идея!
«Мне не совсем все равно видеть тебя одураченным».
— Знаешь, это — очень пошло, то, что ты говоришь, это — плохая французская пьеса.
«Может быть, мне все равно».
Они замолчали оба, и снова раздавшийся звонок по коридору не заставил их изменить поз рассерженных и сосредоточенных курильщиков.
Было приятно — после долгой езды, то быстрой, то шагом, после длинных снежных дорог мимо заколоченных дач, покинутых старинных театров, замерзших речек, после мороза, лунной ночи, пустынных полян на краю островов — было приятно, проехав сквозь дворников на узковатый двор, войти в запорошенных шубах и шапках в широкие светлые теплые сени, куда из залы неслись визгливые звуки румын.
— Ведь мы спросим сухого? не правда ли? Пипер Гейдсик brut? — проговорил Демьянов, опускаясь рядом с Петей Сметаниным против Мятлева, сидевшего около Те-мирова.
Старый гобелен изображал Приама в палатке Ахилла, стены в темной дубовой обшивке напоминали столовые в старинных домах, старые слуги с лицами евнухов молча созерцали группу почти единственных посетителей. Уже ели сыр, и на соседнем незанятом столе синий огонь лизал бока фарфорового кофейника. Петя подпевал матшиш музыкантам, беря рюмку двумя пальцами, жеманно отставив мизинец. Вспоминали прошлые поездки, смешные случаи, мелочи, собеседников, марки вин; зала несколько наполнялась поздними гостями, музыка неистовствовала; Демьянов не спускал глаз с бледного лица Мятлева, стараясь в беглых, будто незрячих взглядах, бросаемых тем временем, найти какой-то ответ. Замолкли, истощивши разговор, выкуривши последние, уже без аппетита, папиросы.
Снова прямая дорога, мелькавшие дачи, снег на деревьях наводили сон, и Петя спал, слегка прижавшись к плечу Демьянова. В лунном свете странно темнели глаза на преувеличенно бледных лицах.
— Я в таком состоянии, что готов отвечать правду на какие угодно вопросы, — заявил Мятлев, будто с вызовом, — и первое, что я скажу, что ничье искусство меня так не волновало, как ваше!
«Ну, а любишь ты Михаила Александровича?» — спросил Темиров.
— О, да.
— «Как?»
— Как угодно. «Всячески?»
— Всячески.
«А я, вы думаете, люблю вас?» — осмелился спросить уже сам Демьянов.
— О, да.
«Когда вы это подумали?» — как-то трепеща, продолжал спрашивающий.
— С первой встречи.
«Вы не думали, что я вам это скажу?»
— О, нет, если бы вы не сказали, я бы это сказал.
«Первый?»
— Первый.
«Вы будете помнить завтра слова сегодня?»
— Вы думаете, я пьян?
«Вы знаете, как важно то, что мы говорим?»
— Да.
«Какая гибель или какая заря искусства, чувств, жизни может выйти из этого разговора?»
Мятлев, бегло улыбнувшись, снова повторил:
— О, да!
«Как это странно, будто во сне, вам не кажется вся эта поездка, весь этот разговор чем-то фантастическим?» — вмешался до сих пор будто дремавший Темиров.
Уже ехали по набережной, Петя проснулся и зевал, что-то силясь напеть, другие молчали чем-то занятые. Поцеловавшись на прощание с Петей и Темировым, Демьянов ограничился рукопожатием с Мятлевым, смотревшим на него в упор своими будто незрячими глазами.
Звон разбитой чашки выдал волнение Раечки, когда она заметила входящих Мятлева под руку с Демьяновым в комнату, уже наполненную разряженными девицами, двумя, тремя студентами и розовыми молодыми людьми в пиджаках. Покрасневшая девушка так и осталась с протянутой рукой, из которой выпала чашка, между тем как Татьяна Ильинишна, качая головой, говорила:
«Ах Раечка, как же это ты — такая неосторожная!»
— Вот, тетя, друг мой — Мятлев, художник, — говорил Демьянов, подводя кланяющегося юношу.
«Очень рады, очень рады, Михаила Александровича друзья — наши друзья. Дочь моя — Раиса», — добавила старуха Курмышева, указывая на все еще не оправившуюся девушку.
— Много о вас слышала от брата, от Валентина… я никак не думала… я так рада видеть вас здесь… — бормотала она, опуская бегающие глаза.
«Оракул! оракул! ваш фант, Валентин Петрович, нечего скрываться, пожалуйте», — щебетала стая до смешного похожих одна на другую барышень в светлых платьях, показываясь на пороге соседней большой комнаты.
«Подойдемте и мы», — шепнул Мятлев Михаилу Александровичу, направляясь к сидящему под большим пледом Валентину. «Двое», — пискнул кто-то, когда они с разных концов приложили осторожно по пальцу к голове изображающего оракул.
И они смотрели внимательно и с улыбкой друг на друга под пытливыми взглядами присутствующих, пока раздавался измененный, шуточно-торжественный голос прорицателя: «Эти двое будут скоро принадлежать друг другу».
Громкий смех, встретивший предсказание, не был разделен только Раисой, с трепетом, затаив дыхание, следившей за происходившим.
— Нельзя ли мне пройти вымыть руки куда-нибудь? — несколько задыхаясь, обратился Мятлев к Демьянову.
«Сейчас! Пройдемте в спальню Татьяны Ильинишны, ближе всего».
«Вот», — сказал он, указывая на ясно видный при свете лампад у почти целого иконостаса старинных икон умывальник.
— Мне он не нужен, — прошептал Мятлев, запирая дверь на ключ. — Разве вы не понимаете?
«Неужели это правда? почему сейчас? здесь?» — бормотал Демьянов, как подкошенный опускаясь на кровать Татьяны Ильинишны.
— Так нужно, так я хочу, — сказал другой, вдруг крепко и медленно его целуя.