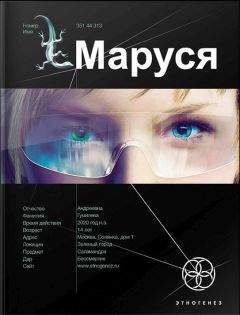Ах как я устала - это я о себе так иногда говорю, в женском роде. Ко мне заходил Колобок. Мне нужно было с ним серьезно поговорить. Я слышал, что он втихаря отбивает у меня Кшиштофа. Ах он сволочь, педераст проклятый! Ведь это я сам их познакомил, своими руками! Кто бы мог подумать, что у такого урода, как Колобок, могут быть какие-то шансы! Без меня он вечно сидел бы в говне вместе со своей мамой! Я его сделал человеком! И что же получил? Теперь он отбивает у меня моего лучшего друга! Ну, я все же думаю, это он Кшиштофу не очень-то нужен - уж больно Колобок страшный, лысый, прыщавый, глаза какие-то красные, зубы желтые. Но все же нужно его отвадить, нужно с ним разобраться. Ах, сука! - я помню, как он своей ногой о Кшиштофа терся под столом! А потом его по руке гладил! Я тогда так ужасно нажрался и вырубился! А вдруг у них что-то было, и Кшиштоф меня бросит? Нет, эту паскуду надо проучить! Как только он пришел, я ему сразу сказал: "Что ж это ты, сука, так себя непорядочно ведешь? Где ж это в приличных домах ты видел такое поведение? Или ты в приличных домах никогда не был, в первый раз пустили? А может, ты считаешь, что так и надо? Что, с друзьями так поступают?" А он говорит: "Я вообще не понимаю. Павлик, чего ты так расстраиваешься. Я не знаю, в чем дело, объясни, пожалуйста."
"Ты дурочку не валяй, - говорю я, - ты зачем к Кшиштофу клеился? Ты что, не знаешь, что он мой?" А он говорит: "Это просто я тогда по пьянке, а потом между нами ничего не было". Тут я подумал, что это ужасно, они ведь могут меня обманывать, а я ничего не могу сделать, я даже не буду знать, встречаются они или нет. Вот так и надейся на друзей! А Кшиштоф мне так нравится, он такой красавец! Но я не стал показывать Колобку, что расстроился. Я все равно сам по его поведению обо всем догадаюсь. Я не стал его отталкивать. Зачем мне нужно это надиралово? В конце концов, я таких Кшиштофов еще десять штук найду с моей внешностью. Им цена пятачок пучок в базарный день.
Марусик мне что-то совсем не звонит. Очень гордая стала. Но она мне не особо и нужна, со старухой я больше не переписываюсь. Мне теперь французский ни к чему, я решил устроиться в Берлине. Мне нашли одну девицу, у нее палатка был русский немец, и его фамилия была Шуман. Но он потом развелся с ее мамашей, и даже в паспорте себе национальность написал "русский", потому что тогда русских немцев преследовали. Хорошо хоть фамилию не стал менять, может, решил, что за еврея сойдет, хотя неизвестно, кем лучше было тогда быть. А эта девица оказалась не такая дура, и когда стала получать паспорт, то записала себе национальность "немка". И я договорился, что мы сочетаемся с ней фиктивным браком, причем ей это нужно, чтобы отсюда выехать, я ей устраиваю приглашение. А я беру ее фамилию и становлюсь "Шуман Павел Владимирович, немец". Тогда есть надежда, что там дадут квартиру, ведь это самое главное, если там иметь жилплощадь, то больше ничего и не надо. А с этой девицей мы заключили соглашение, что, как только попадем в Берлин, сразу же расстаемся, а то еще прицепится и придется с ней возиться, она еще слишком молодая, ей всего восемнадцать лет. Да к тому же у нее мамаша совершенно безумная, кажется, решила, что я на ее дочке по-настоящему женился, и что у нас любовь. Мамаша меня больше всего пугает.
Я тут продавал автоответчик. Нашли мне покупателя, какого-то торгаша. Он приперся ко мне, жирный, рожа лоснится, волосы сальные, зато в фирменном джинсовом костюме и кожаном пальто. А у меня как раз сидел Колобок и смотрел телевизор. Этот придурок стал торговаться. А я ему говорю: "Я цену сбавлять не буду ни на рубль, у меня, кроме вас, тысяча покупателей найдется." Он сел и сидит, думает, аж побагровел весь. Как-то он интересно покраснел - щеки красные, нос тоже, и брови красные, а лоб белый. Я даже подумал, что ему плохо. А по телевизору какая-то музыка играет, симфонический оркестр. Я смотрю, а Колобок, который сидел тихо, вдруг стал руками размахивать. Я удивился и говорю: "Сережа, что это с тобой?" Я даже вспомнил, что его Сережей зовут. А он мне: "Ах, это Бах, я обожаю Баха!" Тогда я говорю ему строгим голосом: "Сережа, успокойся пожалуйста, ты же видишь, что мы не одни, что о тебе человек может подумать?" Я сам подумал, что он окончательно спятил со своим Бахом. А этот торгаш, по-моему, даже испугался, быстренько деньги заплатил, забрал аппарат и ушел. Даже удачно получилось."
x x x
Отцу Маруси становилось все хуже. Он уже не мог встать с постели. В комнате пахло лекарствами, на столике в ряд стояли разные бутылочки и коробочки. Раньше он терпел боль и не стонал, а недавно Маруся увидела, как он сидит на кровати, обхватив голову руками. "Что ж это такое, - сказал он, - надо же что-то делать." Ему начали колоть морфий. Врач в поликлинике, когда Маруся пришла за рецептами, сказала медсестре: "А, там-то? Там недолго осталось, не думай!" Маруся и сама видела, что отцу очень плохо. Он дышал с трудом, его мучил кашель, он уже не мог читать, потому что книга падала, и руки дрожали; даже когда он курил, надо было сидеть рядом, сигарета все время выпадала из рук, и он не мог ее найти. Он уже не мог подняться даже в туалет, и ему приносили баночку. Однажды, когда никого не было в комнате, он встал, упал и разбил себе лоб об косяк. Всего за неделю волосы у него стали совсем белые, и он как-то весь высох. Как только кончалось действие укола, опять начинался ужасный кашель. Он ничего не ел. Только все время курил, врачи сказали - пусть курит, от этого ему даже легче. Иногда, правда, ему хотелось чего-нибудь съесть, и марусин брат Гриша ездил по городу и искал пиво и шашлыки, или черную икру. Отец съедал маленький кусочек, остальное с жадностью доедал Гриша. Гриша как будто не понимал, что происходит. Он казался окутанным толстым слоем каучука, и там, под этим слоем, у него в голове копошились какие-то мысли. Он вдруг заговаривал с Марусей и начинал излагать ей свою теорию про евреев, которые захватили власть и прячутся везде, и поэтому КГБ необходима бдительность. Маруся думала, что, если Гриша рехнется, то это будет неизлечимо, потому что тихое помешательство не поддается лечению. Он уже никогда не выйдет из этого состояния, а будет сидеть на койке, опустив голову и все думать, думать.
В день, когда в городе Жмеринке умерла бабушка, отец Маруси почувствовал это. Ночью он проснулся и попросил пить. Видно было, что ему тоскливо. Это была смертельная тоска, она приходила ночью, под утро, когда еще не рассвело. "Мама умерла," - сказал отец и заплакал. Его щеки заросли седой щетиной.
А утром, действительно, позвонили и сказали, что ночью бабушка умерла. "Вот, - сказала марусина мама, - сама умерла и его за собой тащит". Марусе самой казалось, что между отцом и бабушкой существует какая-то мистическая связь. Эта мысль вызвала в сознании Маруси целую вереницу гробов. Сперва Марусин дедушка, худенький беленький старичок, потом марусина бабушка другая бабушка, мамина - она лежала в гробу с распухшим синим бесформенным лицом, наверное, работникам морга мало заплатили, и они совершенно не старались. Потом бабушка из Жмеринки, ее Маруся, правда, не видела в гробу, но очень хорошо представляла. Она же видела ее незадолго до смерти в больнице, когда приходила навестить. Бабушка тогда дала ей кусочек маслица, завернутый в бумажку, кусочек сыра и два куска булки. На следующий день она не проснулась после операции - ей отняли одну ногу.
Гриша помогал матери ухаживать за отцом, но он очень не любил, чтобы его будили ночью и, если это случалось, начинал дико ругаться, вытаращив глаза. Он часто начинал орать на отца, когда тот пытался что-то сказать, а Гриша не понимал и вдруг разражался дикой бранью. Но, когда у отца был запор, Гриша выковыривал рукой у него из заднего прохода кал, и это занятие ему даже нравилось. Мать даже хвалила Гришу. Хотя иногда он начинал ужасно ругать и ее. Он говорил, что она и отец стучат на него в КГБ, и поэтому его карьера не может сдвинуться с мертвой точки.
Когда пришла Маруся, Гриша вдруг удалился в свою комнату и заперся там. Маруся стала разговаривать с матерью.
"Ты знаешь, он совсем уже сошел с ума, - говорила мать, - он говорит, что я доношу на него в КГБ и что я жидовка. Он говорит, что ты живешь с кагэбэшником. и поэтому тебя и взяли на работу."
Вдруг хлопнула дверь и раздался страшный удар в стенку. Потом в дверном проеме показалось толстое бледное лицо Гриши. У него почему-то совсем не росла борода, а только на подбородке пробивались отдельные волоски. поэтому он никогда не брился. Гриша был очень разозлен. Он закричал матери: "Не смей говорить обо мне с этой сволочью! Не смей! Говори о себе что хочешь, но моего имени не смей даже упоминать при этой сволочи! Она же жидовка!" И Гриша так хлопнул дверью, что с потолка посыпалась штукатурка. Потом хлопнула дверь в Гришиной комнате, и через некоторое время раздалась музыка. Гриша слушал песню Розенбаума. Мать заплакала.
"Вот так каждый день. Но, правда, он мне помогает, и в магазин ходит, и в аптеку. Только ужасно ругается. Я ему предлагала сходить к психиатру, но он даже и слушать не хочет. Говорит, что это КГБ мне дало задание его в сумасшедший дом упрятать."