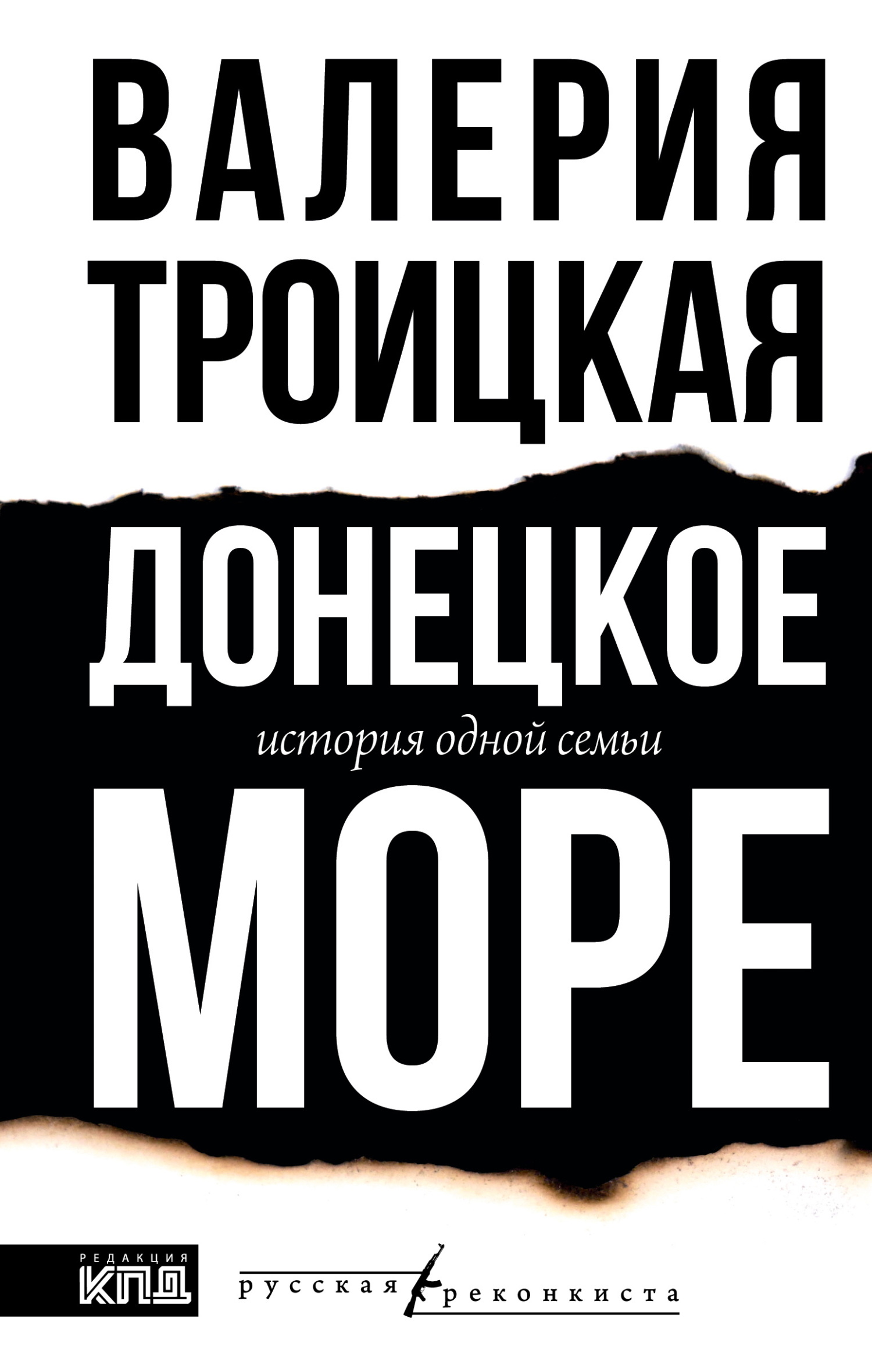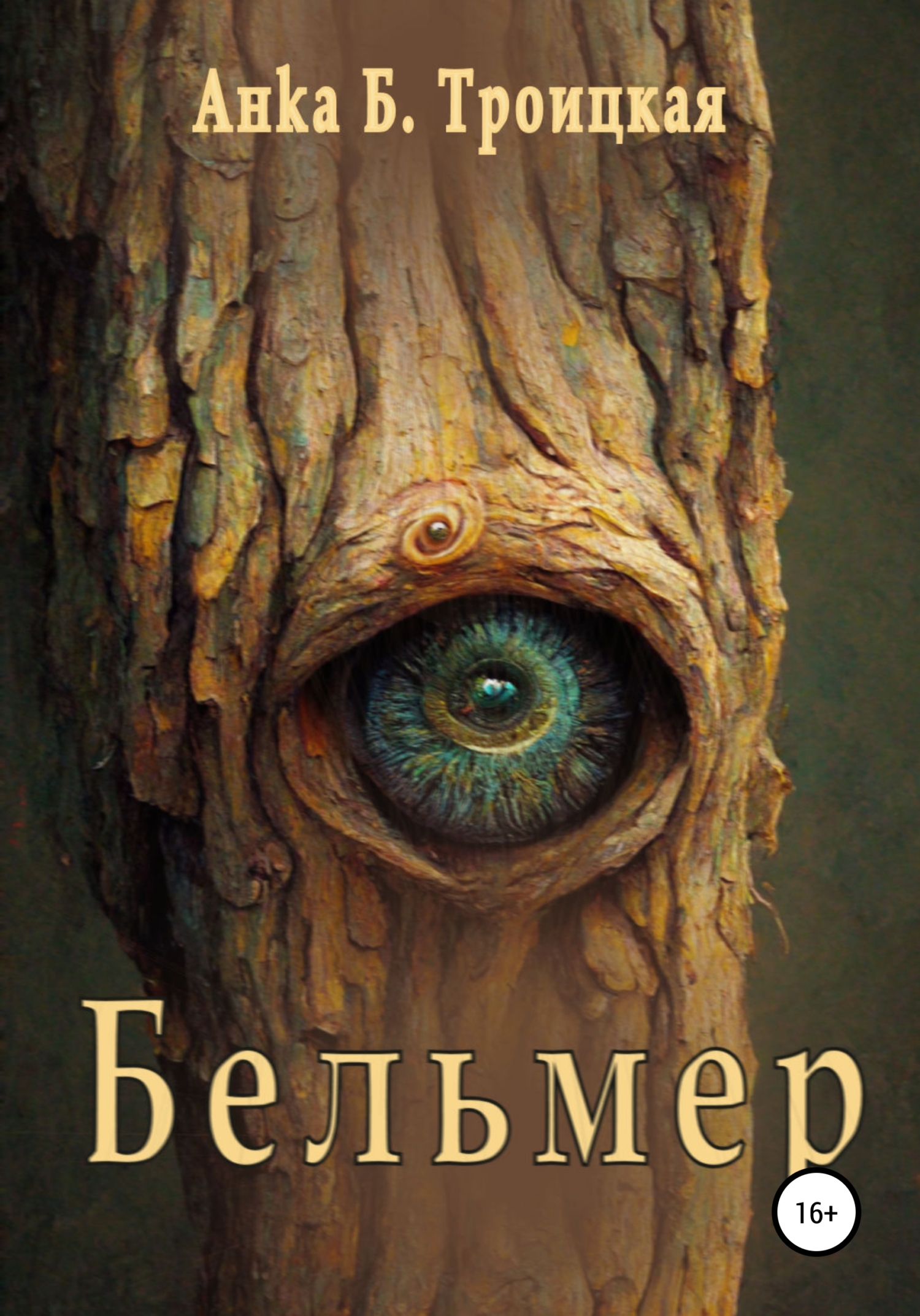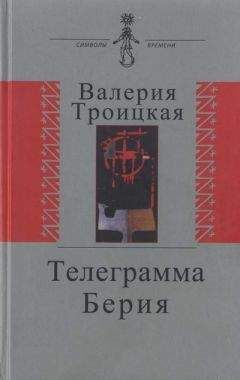светом. – Витя еще говорить не умел, а папа привозил нам самые дорогие, самые лучшие энциклопедии – про животных, про разные страны…
– А вы говорите, что город мертвый! – воскликнула вдруг Катя, подойдя к окну. – А он живой.
Да, на улице совсем рассвело, зимнее утро стало веселым и искристым, а из окрестных домов в магазины ручейками потекли пенсионеры.
– За хлебом и молоком, – улыбнулась Витина мама. – Вон ту бабушку видишь, в серой шубе? – спросила она, привстав с дивана.
Вдалеке шла пожилая, сгорбленная, очень худая женщина в шубе словно из волчьей шкуры, а рядом с ней ковыляла дворняга, тоже напоминающая волка, только сильно оголодавшего, с длинными кривыми лапами и спиной, изогнутой в дугу. Вот так вместе – хозяйка и ее собака – они медленно, одиноко брели вдоль невысоких сугробов.
– Я по ней часы сверяю! – задорно сказала тетя Таня. – Она выгуливает собаку ровно в девять. И никакой прилет не может сбить с графика! Она уже очень старенькая… Работала еще в моей школе в столовой. Кажется, у нее когда-то был сын… А сейчас только собака.
– Мне Аня чем-то Витю напомнила, – призналась Катя.
– Чем? – удивленно спросила тетя Таня.
– Глазами! Слишком взрослыми, – задумалась Катя. – Вы говорили, у нее папа в ополчении погиб?
– Да. В самом начале, – ответила тетя Таня, вновь откинувшись на спинку дивана.
– А где ее мама?
– Пропала, – просто ответила она. – В пятнадцатом, весной или осенью. Не помню уже, в голове все смешалось. Она после гибели мужа поехала за документами в Авдеевку, они с мужем и Аней до войны там жили. Наши блокпосты прошла, ее наши ребята запомнили. А там – с концами. Был человек – и нет человека.
– Ясно, – сказала Катя.
– Я хорошо ее помню. Красивая была девочка, – тихо произнесла тетя Таня. – Она в первый класс пошла, когда я была в выпускном. Ее часто в школу папа приводил. Он действительно был художником. Он в нашей детской больнице и в стоматологии расписал все стены. Знаешь: зайцы, медведи, герои мультиков? Я, наверное, из-за него и в медицинский пошла, перестала бояться больниц… А ведь я у них совсем редко бываю, – мгновенно нахмурилась она. – За это время только пару раз: укол делала Рае и помогала девочке температуру сбить… И все. Наверное, я стала черствая? Наверное, у меня душа отмирает?
– Ну что вы говорите? – испуганно улыбнулась ей Катя.
– У меня недавно такая страшная мысль в голове появилась. Я потом себя за нее просто ненавидела, – напряженно произнесла она.
– Какая мысль? – посмотрела на нее Катя.
– Помнишь, парня привезли, которого в плен взяли, а наши через сутки так лихо его отбили?
– Угу, – быстро кивнула Катя.
– Я тогда на него посмотрела и подумала: может, мне повезло, что Витя вот так, в самом начале войны? А то сейчас бы воевал, а я сходила бы с ума… Мне потом так жутко, так стыдно перед ним стало! Я ходила и ругала себя последними словами.
– Мало ли какие у человека могут быть мысли! – передернула плечом Катя. – Забудьте! И мы же все в первую очередь о себе думаем. Я, когда Витю вспоминаю, я же не представляю, где бы он учился, кем бы он стал. Я думаю, что и в школе, и в институте мне было хорошо, и рядом были хорошие люди, но вот так, чтобы с кем-то совсем близко – нет, не получилось! А Витя, наверное, был бы мне самым близким человеком… А кем он хотел быть, куда поступать? – после недолгого молчания спросила она.
Катя спросила об этом впервые после его гибели. При том, что Витя все эти годы постоянно, неотступно жил в их с тетей Таней разговорах, в их каждодневных воспоминаниях. Но говорить о нем получалось только вскользь, только мельком и лишь короткими фразами – иначе им обеим становилось больно.
– Сначала он хотел быть летчиком. Потом строить корабли, – чуть заметно улыбнулась Татьяна Александровна. – Потом решил в ДПИ [8] поступать, на горный. Он хотел быть повсюду: и в воздухе, и в море, и под землей. Знаешь, мне порой кажется, что он сейчас, действительно, везде. Я его постоянно чувствую.
– Я тоже постоянно его чувствую, – ответила Катя.
Она совсем не обманывала. Витя для нее был словно растворен и в этих пустынных дворах, где они так часто гуляли после школы, и на шумной улице Артема. Она чувствовала его в каждом мгновении, когда ей было хорошо и светло на душе. И, конечно, в этой комнате, где его прикосновение помнили и ее висок, и каждый предмет, и эти бесконечные умные книги.
Ей вдруг почудилось, так сильно, так остро и так отчаянно, что это просто не могло, не имело права не сбыться: вот сейчас, прямо сейчас Витя выйдет из-за угла соседнего дома, и война тут же закончится, и папа сразу вернется, и будет весна или лето, и они все вместе поедут на Голубые озера под Авдеевкой. И Аню тоже с собой возьмут. И они вчетвером – с Витей и тетей Таней – будут плавать в их чистых, родниковых водах. А папа, лишенный всех морей на этой планете, будет сидеть на песке и смотреть на лазурное озеро. Ведь озеро – это тоже хорошо.
– Катя! – позвала девочку Татьяна Александровна, с любовью вглядываясь в ее встревоженное лицо. – Оставь мне, пожалуйста, портрет, который Аня нарисовала. Передари его мне! Повешу в своей комнате рядом с Витиной фотографией. Каждое утро буду просыпаться, а у меня перед глазами самые близкие люди.
Когда Катя шла домой, она бросила взгляд на зарешеченное окно первого этажа. Аня все еще сидела на кресле – рядом с подоконником, где, вопреки февральскому холоду, цвели розы. Она так же увлеченно рисовала, так же старательно закусывала верхнюю губу, и под этим торшером с красным абажуром сама казалась зимней тонкой розой, которую злые люди закрыли в клетке.
Вечером, уже в своей квартире, Катя долго стояла у окна и вновь смотрела на черные голые деревья. Воздух на улице был синим, а снег белым, лишь на тропинках он слегка потемнел от людских шагов. А так февральский вечер ничем – ни красками, ни настроением – не отличался от февральского утра, словно зима, предчувствуя свой конец, пыталась человека обмануть, окольцевать, доказать, что она бесконечна и выхода из этого круга нет. Но Катя смотрела на людей, бегущих домой сквозь темные дворы, и чувствовала приближение весны. Она ее предощущала так сильно, как никогда в жизни.