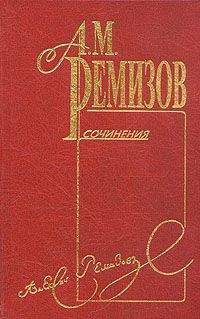Умчался автомобиль. Стою и двинуться не могу, — метнулся Жук, заковылял. Свистнул я тогда — и, должно быть, узнал он и широким кругом повернул на зов, и упал.
Собрался народ, все соседские, все Жука знали, все что-то говорят, а я стою, и не слышу. Подошел и лавочник, папиросы у которого купил, положил он Жука в сторонку, к тротуару: не дышит уж.
Я домой.
— Где Жук?
И поняли, по лицу моему поняли, — никогда уж к нам не вернется Жук!
Номерок его есть у нас, у Веры хранится вместе с зайцем, которого ей зайца в кроватку клали спать вместе, да письмо к маме — Жук написал, Вера лапкой его водила:
«Милая наша мамочка, как все мы тебя любим, я никогда не буду огорчать тебя, и Жучок не будет, мы тебя, мамочка, беречь будем».
Письмо, как в поминанье пишут, большой буквой, у мамы хранится — о Жуке память.
1913 г.
Как-то в самую зиму в Вологде появилось на телеграфных столбах объявление: показывался живой дикий страус, который камнями питается, и яйцо страусово — шестьдесят пудов весит!
В Вологде развлечения какие! И я обрадовался случаю и пошел куда-то к собору смотреть страуса и яйцо его.
Комната — пустое лавочное помещение — зверинец, куда ввели меня, был жарко натоплен, и содержатель страуса, человек живой и расторопный, Фиандра какой-то, пересыпая словами изысканными, добро свое нахваливая, а выражался он на смешении вавилонском, сам нет-нет да и подбрасывал поленьев в пышащую железную с большой трубой печку, — на воле крепко, круто морозило и было сурово по-вологодски.
На стене висела лампочка, тут под лампочкой и стоял живой страус, а перед страусом ведро воды и корм его — разбросаны были наши голышки-камни речные. Страус стоял с закрытыми глазами, весь съеженный, чахлый и линялый: засыпала птица, — конечно, и камнями сыт не будешь, и все-то ему, поди, холодно!
Хозяин объяснял качества страуса, рассказывал о его прожорливости каменной и непоседливости дикой.
— Птица уедливая! — повторял Фиандра-хозяин, и от страуса за яйцо взялся.
За перегородкой на соломе лежало яйцо, белое шестьдесят пудов. И хозяин постукивал ногтем о твердую скорлупу и даже приподнять яйцо пробовал, — до коленок приподнял яйцо: тяжесть непомерная!
Постоял я, посмотрел — шестьдесят пудов! — и вернулся к страусу, все ждал, что глаза откроет, а не открывал страус глаз, засыпала птица.
Хозяин все с яйцом возился, стучал ногтем, приподымал до колен, но охотникам силу на яйце померить всем отказывал: не ровен час, кокнешь, и желток и белок вытекут и пропадут твои деньги — скорлупой никого не удивишь!
Завлекал хозяин диковинкой, и я еще раз подошел к яйцу, потрогал, — трогать можно! — и пошел к себе на Ивановскую.
Немало прошло времени, и вот однажды в Петербурге я наткнулся на объявление — на заборах расклеены были огромные плакаты: показывали диких людей, папуасов, которые людей едят. И вспомнил я вологодского страуса с его яйцом в шестьдесят пудов и пошел в пассаж куда-то людоедов — диких людей смотреть.
Людоедов было двое, был, говорят, и третий, да в Москве помер: простудился. Людоеды скакали и сигали на эстраде и луки натягивали, представляли, будто стреляют в публику, — все в перьях и нагишом совсем, только пояс на бедрах в раковинках.
Было так же жарко, как в Вологде за собором у страуса, а публики было куда больше, нарасхват разбирались билеты, и совсем недешевые.
Когда кончилось представление, я пробрался за кулисы в логовище, и там еще жарче было, как в бане, и душно. Людоеды бродили по логовищу и вдруг бросались на кровать и лежали ничком на брюхе, не двигались, словно обмирали, и опять подымались и бродили как в клетке.
Прислуживал людоедам китайчонок: китайчонок в печку дров подбрасывал, китайчонок и корм давал — бананы.
И сказывал мне Фиандра, содержатель диких людей, мои старый знакомый, как вечером, как спать укладываться, — а спали людоеды ничком на брюхе, — перед сном своим диким становились они на колени и кланялись китайчонку, как идолу своему, поклонялись, — конечно, он им и тепло давал, он и кормил, и поил их.
Так объяснил мне живой и проворный Фиандра на своем вавилонском смешении.
Языка людоедского я не знал, и они моего не знали, никакого они не знали, кроме своего. Но как-то так обернулось, и стал я с ними объясняться, и что-то выходить стало понятное и мне, и им.
А потом подарил я им корокодила-зверя, — такая большая игрушка, змея есть: если за хвост ухватить ее, так будет она из стороны в сторону поматываться, будто жалить собирается, черная, белыми кружочками, а пасть красная и зубатая, — очень страшный корокодил-зверь!
И с каким восторгом приняли людоеды эту игрушку, они пугали змеей друг друга, пугали Фиандру-хозяина, только не китайчонка, а у нас пошла дружба.
Не остались и дикие в долгу, дали они мне по пучку волос своих жестких, кокосовых — это, должно быть, хорошо считается, — а как смотрели доверчиво и ласково! И всякую мелочь в своих нарядах показывать стали и объяснять, что и к чему.
И когда все было показано и рассказано, старший людоед кротко так приподнял свой пояс.
— Ви́ка, — сказал людоед кротко так, — ви́ка!
И мне так жалко стало и больно — столько было доверчивости и такого детского, и такого невинного, о чем нам и подумать трудно.
Потом и другой людоед, младший, то же проделал.
И оба отошли в сторонку, деловито копались, что-то ели…
А я остался стоять один в логовище, в гнезде их диком один недикий, и думал, о страусе думал и о приятелях моих этих.
Да, в Вологде тогда зимой так и заснул страус, я помню, и хоть на столбах все еще стояло, что страус живой и камнями питается, а уж показывали одно яйцо его в шестьдесят пудов. А как же эти? Добрались с Фиандрой до Петербурга, — до которого места дотянут? До Риги? Или подальше?
Птица ничего сказать не умела, без стона стоял страус с закрытыми глазами и засыпал, — молча умирала птица. А эти? А эти с викой своей скачут на эстраде и на ночь китайца молят, тоже молча, на коленях, кланяются ему и просят, — да о чем они просят? Благодарят, конечно, прав Фиандра, за тепло благодарят, за бананы, ну, а еще, о чем они так молят и отчего так смотрят? Да спасти просят, отпустить туда, в леса их дремучие и в горы толкучие, в пустыню, где они жили с птицами и со зверями и улыбались доверчиво и кротко, как каждый кротко мне улыбнулся и так невинно, когда поднял свой пояс.
«Страус камни ест, а эти, не тут, не в логовище петербургском, а там, в лесах и пустынях, людей ели… Но Ты, Господи, не оставишь их, простишь и страусу, что камни Твои речные, голышки-камушки поедал, за его терпение — с закрытыми глазами, молча умирала птица! — и диких людей, людоедов, простишь, что людей ели — при мне они бананы ели, китайчонок давал им, да насекомых… простишь, не оставишь их за их улыбку кроткую и невинность, а нас? нас не оставишь? Мы несчастней и покинутей их, и страуса, и людоедов диких, терпения нет у нас и улыбки этой нет у нас, невинности их детской, и твердости царской молча терпеть, и сердце у нас каменеет, сердце у нас мерзнет. И кто же нам даст тепла и света, и очистит душу, и прояснит совесть, и зажжет сердце, и пробудит дух, чтобы все снести, все вытерпеть, стерпеть даже и тогда, когда и Ты Сам покинешь нас?»
Я стоял в логовище один, в гнезде диком, не-дикий один и думал, и было мне больно и жалко.
Звонок зазвонил на эстраде. Выскочил откуда-то китайчонок и такой вдруг важный погнал диких людей на сцену: сигать и скакать им и представлять, как из лука стреляют там, в лесах дремучих, в горах толкучих, в пустыне.
1913 г.
Чего только беда не делает, беда да нужда! Измучит она своими муками, согнет до земли, сожмет унынием, унизит, придавит, да так, что весь, как мертвец вытянешься, да на загладку еще и подсмеется, насмеется вдоволь. А станешь себе голову ломать, на выдумки пустишься, как от беды избавиться, уж она тут как тут, она-то тут и начнет свои советы в уши тебе нашептывать. И что ни совет, то пакость одна. Не видишь, за все хватаешься — и какие мечты, какие радуги подымаются! — все тебе кажется и просто, и легко, и хорошо, и не тебе только, а и всем хорошо, — будет от твоего дела хорошо. И примешься за дело, начнешь выполнять совет добрый… А на проверку-то, глядь, и совсем не то, — вот не ожидал! вот не думал! Господи, да что же это такое? — еще большее издевательство, еще большее унижение. И какую надо силу, чтобы все вынести, или Божью благодать надо вымолить себе и все вытерпеть, согнуться, пропасть и стать из пропада и унижения!
Когда в Петербурге, так повелось нынче, цветы продают во всякую пользу, Петербург оживает. Какие новые лица на улицах, какие веселые и бодрые, — щит несут со цветами, пристают к прохожим цветок купить, и так пристанут, что отказать невозможно: постоишь, посмотришь, увидишь эту молодость и бодрость, и уверенность, да и полезешь в карман за гривенником. Молодые больше, студенты, барышни, и уж непременно у каждого свой спутник. День-деньской по улицам бродят со цветками своими, с улыбкой, со смехом своим, пристают купить цветок, прикалывают цветки, под дождем, в стужу нашу, в изморозь ходят, и горя мало.