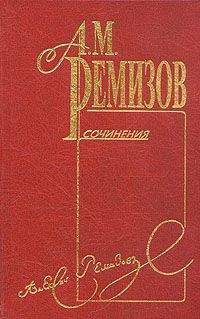Когда в Петербурге, так повелось нынче, цветы продают во всякую пользу, Петербург оживает. Какие новые лица на улицах, какие веселые и бодрые, — щит несут со цветами, пристают к прохожим цветок купить, и так пристанут, что отказать невозможно: постоишь, посмотришь, увидишь эту молодость и бодрость, и уверенность, да и полезешь в карман за гривенником. Молодые больше, студенты, барышни, и уж непременно у каждого свой спутник. День-деньской по улицам бродят со цветками своими, с улыбкой, со смехом своим, пристают купить цветок, прикалывают цветки, под дождем, в стужу нашу, в изморозь ходят, и горя мало.
Когда я вышел на Невский, я встретил эти знакомые мне, влюбленные лица и, хотя у меня был цветок, я соблазнился и еще купил себе: продавали в тот день розовый цветок и бабочку. Мне надо было к Калинкину мосту — путь долгий, и всю дорогу на Невском попадались цветы и бабочки, и дорога была веселая и легкая. Потом на Садовой поредели веселые продавцы, а за Сенной и совсем стало тихо, и только какие-то ребятишки, один с тяжелой кружкой, другой с пестрым нарядным щитом, выпрыгнули у Спасской части из трамвая и сейчас же в встречный вскочили, назад ехать на Невский.
Я шел со цветком и бабочкой и думал, вот что говорю сейчас, о цветках розовых думал и о бабочках, о молодости влюбленной и бездумной и такой уверенной оживляющей наш суровый, деловой и тревожный, угрюмый Петербург. Нам, ведь, как в манной каше, тесно, и уверенности нет никакой! Знаю, надоели всем и эти цветки, и эти бабочки, да Бог с ними, пускай себе, за одни лица их, за их молодость и улыбку ведь Бог с ними. И мне уж беспокойно и скучно стало, что не встречаю больше ни цветка, ни бабочки, что пропали цветки, и никто уж не пристанет ко мне, и никто так уверенно не взглянет в глаза:
— Купите цветок!
У Покрова, где трамвая ждут, собралась кучка народу, останавливались прохожие, а час был совсем не разъезжий. И я подумал: «Уж не человека ли раздавило?» и поспешил. Но увидел совсем другое, — и никого не давил трамвай!
Старуха стояла с пестрым нарядным щитом, на щите бабочки и розовые цветки, а около городовой трудился, кружку разбивал: кружка оказалась фальшивой, и городовой хотел вскрыть ее.
Щит у старухи был в цветках и бабочках, бабочки сидели и на груди, и на платке, как звезды, и сразу не бросалась в глаза ни беднота, ни дрань, — одни эти нарядные бабочки.
Народ все подходил, останавливались, стояли и смотрели, на старуху смотрели. И старуха смотрела: старая такая, без кровинки, седая вся, усталая, и эти на ней бабочки и цветки розовые; старуха смотрела, не мигала, и слезы наливались в глазах и не капали. Никто ее не ударил, никто не бил, только смотрели, а была она, словно избили ее, словно только-только из-под трамвая вылезла, из-под колес тяжелых, колесом придавленная.
Не вытерпел кто-то и один за всех сказал с сердцем, так и полыснул, не стерпел в сердцах:
— Эка, ты, бабочка! — и добавил такое обидное, и неправду, и правду сущую.
И, должно быть, добил старуху — у старухи вдруг пропали слезы, сожглись, пропали и снова налили глаза и опять и опять сожглись.
Старуха смотрела, нет, не на народ, не на нас, — а дай только волю, развяжи руки, придушили б старуху! — старуха смотрела куда-то… где ее увидят в ее злую минуту, опозоренную, пойманную воровку, бабочку, туда куда-то, где и ей приют будет/ к Покрову, к Матери Божьей, которая и последнего грешника примет, за его скорбь примет.
Кружка крепкая не поддавалась, и городовой, Беринчук какой-то, бормотал себе под нос и совсем что-то не по-русскому, неподходящее.
Народ прибывал, подходили, останавливались, стояли и смотрели молча — так и пыряли глазами пойманную старушонку. Ветром приподымало шляпы, прохватывало, нашим ветром, не холодком, а холодным.
Вот кончит городовой свою работу, вскроет воровскую кружку, а старуху в часть заберет с ее щитом нарядным. И когда впихнут ее в холодную и закроется за ней дверь, уж тогда никто так не взглянет, и не то в глазах будет — за замком в холодной попадет старуха в несчастные, которых не жалеть, не корить надо, а пока — пока она воровка и ее хоть в канал швырнуть, в Фонтанку.
— В канал ее с головой, воровка, дрянь! — откололось в толпе.
И пожалел кто-то:
— Господи, хоть бы покрыть ее, — пожалел кто-то, — ни ей чтоб нас, ни нам не видеть ее. Нельзя же так человека мучить!
Да чем же покрыть-то, — ты, доброе сердце, слышишь! — это не скроет, не поможет, и через самую густую покрышку увидишь ее, и она всех увидит.
Старуха смотрела туда куда-то… и лицо ее было кротко, и уж не было в ней ни пришибленности, ни страха, ни унижения, она тихо плакала, и тихо, и кротко. Или уж покрытая? Или уж покрыла ее Матерь Божия, которая всех грешников принимает за их скорбь, всех пойманных, воров и убийц за их страдания в их злые минуты последние, потерянные.
1913 г.
Чувствовал я такую убитость, на край света ушел бы… Трудно живется. И знаешь, коли пришла беда — Бог посетил, да уж так подойдет, страшно: не надо и Бога самого и пусть лучше без всякого Бога, только бы хоть как-нибудь, хоть мелко, ну, хоть свиньей пожить, только бы покой достать. Знаешь, навалит на тебя, принимай, все бери и неси — пришла беда, Бог посетил! — терпеливо и кротко неси, все это знаешь, тысячу раз переслушал и передумал, ладно, хорошо это все, после хорошо, когда вынесешь, а пока, хоть на край света…
До края света далеко, — до Парижа доехал.
А помню, как впервые попал я в Париж, ну, как домой, так мне все было близко, и все, как свое, московское. И я все ходил и смотрел: позанимаюсь, как дома, посижу, погнусь у стола, и смотреть — всякую диковинку хотел высмотреть. А диковинки там со всей земли собраны, есть посмотреть чего! Да и так, если и нет ничего, там себе придумают: последний твой сарай палэ у них называется, дворец по-нашему, палац, и самый грязнеющий постоялый двор за отель идет, — гостиница! И есть, на Бульварах видел, туфельки из перьев самой маленькой птички райской, из перышков ее тоненьких сшиты, в окне стоят, семьдесят пять тысяч франков цена, тысяч тридцать по-нашему! Прочитал молитву Богородичну, на сто дней, по-ихнему, отпущение грехов себе получил, лазил и не раз на собор к колоколам, чудищ смотрел, — и у нас такие на Спасской башне стоят, только попригляднее. А под Иаковой башней тоже чудища, те зеленые, как и во дворике в Клюни́, — без доброго слова мимо пройти невозможно: понятливо так глядят, понятливые. И когда все, кажется, пересмотрел и перетрогал, просто по улицам стал ходить, камни топтал. В камне своя чана есть, душа: проживет камень много веков и если за эти сотни лет кругом него жизнь кипит, получает камень чану свою, и оттого ему ничего не делается, ни сжечь, ни извести его нельзя. И вот когда ходишь по улицам и топчешь эти камни, а камни там ценные, — ведь нигде на земле не прошло так близко и недавно так столько нашего кровного и всего! — эта чана, эта душа, скрытая в них, и в тебе зарождается. В мае было, а в мае там всякий вечер всенощную служат в честь Божьей Матери, и всякий вечер ходил я в их церковь. Как заслышишь колокол, так нас в Новгороде, да во Пскове на вече сзывали вечевой наш колокол, и так где-то в сердце и вздрогнет, и чаю не допьешь, вылетишь из отеля, — всякий вечер Божьи органы слушал. И помню, когда уезжал, все прощался, расставаться не хотелось, мимо Клюни ехал, шапку снял: «Прощайте, звери каменные, камни мои ценные!» — и собору поклон положил: там, у колоколов на кровле чудища все осанну орали каменным своим гласом и один, такой носатый, бестия, успел-таки зайчатину клыком прихватить, сам подкрикивал.
Все то же и теперь, и в этот раз, так же огоньки на Сене-реке горят и знакомо все, вышел я на улицу — и не наша улица, не наши дома, не наши названия, а словно в Таганке, так знакомо все до последнего камушка. По этой Таганке иду, а что-то жутко, тревога растет, — это от убитости моей все стало таким, враждебно все — иду, руки стиснуты и зорко вглядываюсь, Господи, как проклятый, иду! — и одни эфиопы, в Париже страсть эфиопов сколько, учиться приезжают, одни они, черные, мурины, чем-то близким кажутся, может быть, цветом своим отверженные от нас, чувствуют они проклятость свою, и оттого смотрят так, так жалобно и ласково. Знай язык ихний, заговорил бы… А жил один эфиоп в нашем отеле, а в отеле при входе полочка такая есть: ключи от комнат вешают, и письма полученные хозяйка выставляет под твой номер, — не утерпел я, думаю, узнаю хоть фамилию эфиопскую, и посмотрел, Ку-ку оказалось, такая фамилия Ку-ку ихняя. И этот самый Ку-ку первый стал со мной раскланиваться, — почуял, знать! Идешь по улице стиснутый весь, тревога растет, шум, гам, стук стоит, кричат, выкрикивают и все слышится: «Раки живые! Раки живые!» — будто наш разносчик кричит, и тревога еще больше и уж не смотришь, одно только и смотришь, как бы под автомобиль не попасть, музыка играет в кафе, прежде, бывало, услышишь и всегда зайдешь, кафе-о-ле, кофию спросишь, дадут тебе большущую рюмку — в рюмках, не в чашках подают — и сидишь, пьешь, слушаешь и легко, а теперь и калачом не заманишь, дальше, куда-то нее дальше, пройдешь мимо Клюни, мимо садика со зверями каменными, которые звери так понятливо смотрят, поздороваешься со зверями и дальше — да куда же? — на край света!