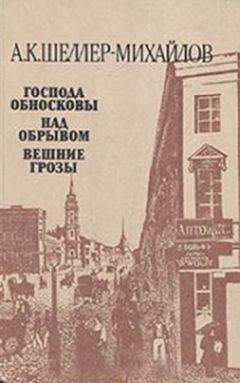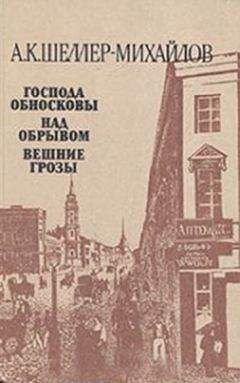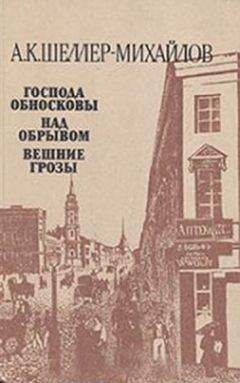— Прохвосты нынче люди!
До Марьи Николаевны доходила тоже значительная часть этих бесконечных толков.
Она невольно задумывалась о Мухортове. Что это за странный человек: он не сделал ни одного шага, чтоб поискать ее руки для поправления своих дел; он хладнокровно потерял большую часть своего имения; он оставался веселым, когда все смотрели на него, как на несчастного разоренного человека. Иногда в ее душе поднималось против него чуть не враждебное чувство, точно он лично ей нанес глубокое оскорбление, не посватавшись за нее. Порою она вдруг горячо вступалась за него в обществе и говорила, что это единственный честный человек, встреченный ею в жизни. То ей становилось до слез досадно на то, что она думает о нем, то ей страстно хотелось увидать его, сдружиться с ним, заглянуть в его душу. Эта двойственность душевного настроения выводила ее из себя, и она вымещала свое раздражение на своем женихе. Он решительно не знал, как угодить ей, как попасть ей в тон. Он, может быть, давно бы изнемог, устал от этой игры в кошки и мышки, если бы она не была такой выгодной невестой. Из-за нее можно было перенести многое. Крупные призы на жизненной арене вообще достаются нелегко. С Мухортовым Марья Николаевна не встречалась давно, и когда ей пришлось снова увидать его в доме Алексея Ивановича, она совершенно смутилась. Егор Александрович раскланялся с нею и тотчас же стал продолжать прерванный на мгновение ее приходом разговор о будущей охоте с Павлом Алексеевичем. Ее почему-то раздражило это равнодушие, точно она ждала, что Мухортов бросится к ней с распростертыми объятиями или, в крайнем случае, взволнуется, изменится в лице. Но Егор Александрович продолжал громко веселую болтовню со своим юным двоюродным братом, страстным охотником.
— За что это Егор Александрович дуется на меня? — вдруг спросила она у двоюродных сестер Егора Александровича.
— Как дуется? — воскликнули Зина и Люба. — С чего ты взяла?
— Даже не удостоил ни одного слова, — ответила Марья Николаевна. — Впрочем, он теперь, говорят, драпируется своим геройством и равнодушием.
— Что ты выдумала, милочка! А вот мы его сейчас призовем к исповеди, — со смехом сказали барышни и крикнули:
— Егораша!
— Не надо! Не надо! — быстро вскрикнула Протасова, остановив их в смущении.
— Что? — отозвался Мухортов.
— Брось ты свои противные разговоры об охоте. Иди сюда! — кричали кузины.
— Сейчас! — ответил Егор Александрович и отошел к барышням.
— Ну, что вам? — спросил он.
— Вот Маша говорит…
Марья Николаевна раздражилась.
— Вы вечно глупите! — проговорила она. — Нельзя сказать ни слова… Это же неделикатно!.. Пора перестать наивничать!..
— Она говорит, что ты дуешься на нее, — пояснили Зина и Люба, не слушая ее замечаний.
— Я? Дуюсь? — он обернулся к Марье Николаевне и проговорил: — За что же я могу дуться на вас, я не понимаю…
— Ах, это они все глупости говорят, — сказала она сконфуженно и тотчас же с напускной бойкостью прибавила:- Впрочем, вы и не поверите им, зная, как я мало обращаю внимания на то, как кто на меня смотрит. Очень мне это нужно!
— Вы вполне правы, я это знаю, — коротко согласился он.
— И потом говорит, что ты рисуешься своими подвигами. Это ты-то! — не унимались молоденькие кузины.
— Подвигами? Какими? — спросил не без удивления Егор Александрович и вопросительно, пристально взглянул на Марью Николаевну, ожидая ответа.
Она побледнела, как полотно; на ее глаза навернулись слезы от досады. Ей стоило немалого труда, чтобы удержаться от крупной ссоры с барышнями Мухортовыми. Она не отвечала ни слова. Ему стало жаль ее, но тем не менее он заметил ей с упреком, хотя мягко и ласково:
— Зачем вы повторяете чужие толки, сознавая всю их пошлость?
Марья Николаевна подняла на него полные слез глаза, как провинившаяся девочка.
— Не сердитесь на меня, — сказала она задушевно и протянула ему руку. — Я сама не понимаю иногда, что со мной делается… И зачем они это вам сказали? Поссорить хотят с человеком, который…
Она остановилась, точно поперхнувшись. Кузины Егора Александровича бросились ее целовать.
— Милочка, не сердитесь! Это ведь шутка! Разве Егораша рассердился? Да он и не умеет сердиться!
Егор Александрович спокойно заметил:
— Я не имею права сердиться на Марью Николаевну.
И, обращаясь к Протасовой, он добавил:
— Мне просто стало больно, что именно вы повторяете эти толки обо мне.
Он поспешил переменить разговор, и через две-три минуты неприятная сцена забылась. К Мухортовым приехал кто-то из соседей, и Егор Александрович совершенно неожиданно остался с глазу на глаз с Протасовой. Она предложила ему пройтись по саду, видимо обрадованная возможностью поговорить с ним без свидетелей.
— Вы не сердитесь на меня? — спросила она его, идя с ним но тенистой аллее.
— Я? Что вам пришло в голову, Марья Николаевна? Нисколько, — ответил он.
— Мне казалось, что так… или, если не сердитесь, то избегаете меня, — закончила она нерешительно.
— В последнем случае вы, может быть, и правы, — сказал он. — Но в этом ни я, ни вы не виноваты. Если уж пошло на откровенность, то надо договаривать все. Нас с вами поставили в крайне неловкое и нелепое положение.
— Ну, вот глупости! Я знаю, о чем вы говорите!
— Верьте мне, что я не имел на вас никаких видов. Я понимал всю гнусность этих планов, составившихся без моего и без вашего ведома. Правда, была минута, когда я почти согласился. Но…
— Что?
— При встрече с вами я сам устыдился за себя. И знаете, почему?
Он улыбнулся.
— С одной стороны, мне показалось, что я не сумею лгать именно перед вами, с другой — я был убежден, что вы мне прямо в глаза скажете, что я лгу, и скажете это так, как не говорят в так называемом «обществе» — сгрубите…
Она молчала и о чем-то задумалась. Он продолжал тем же спокойным и веселым тоном:
— Впрочем, мне и не удалось бы посвататься за вас, если бы даже и вздумал, так как вы сами тотчас же отказались от меня, узнав о моих планах.
— Да, мне стало так больно, больно, когда я узнала, что даже вы ищите моей руки, не любя меня, — горячо проговорила она.
Она взглянула на него полным нежности взглядом.
— Вы единственный человек, с которым мне так хорошо, — просто проговорила она. — Это странно, но мне кажется, что мы были друзьями с детства, точно вы мой старший брат. И вдруг вы бы стали свататься за меня!.. Это било бы низко!.. Нет, нет, я так тогда рассердилась, точно это разрушало мои лучшие верования…
— Увлекающийся вы человек! — улыбнулся Егор Александрович. — Ваши верования в меня составились по двум свиданиям.
— Нет, — ответила она, — даже не по двум свиданиям, а просто как-то по чутью. В обе наши первые встречи мы даже не поговорили толком… Впрочем, о вас мне много говорили до вашего приезда…
— И, конечно, все только хорошее, — прибавил Егор Александрович. — Ведь меня прочили в женихи, и вас нужно было подкупить…
— Нет, я знаю, что о вас говорили правду!
— Обо мне, говоря правду, можно было сказать одно: это добрый человек, потому что ему не с чего быть злым; это честный человек, потому что ему нет нужды быть бесчестным. Это еще не великие заслуги, Марья Николаевна. Ими отличается, или, вернее, сказать, может отличаться большинство сильных мира. Злоба и бесчестность в богатых и сильных — это аномалия, уродство. Правда, эта аномалия встречается часто, но все-таки аномалия… Я ею не страдал, я не был ни злым, ни бесчестным. А вот теперь, когда я стою на пороге к делу, к добыванию хлеба, я сам в своих глазах оказываюсь вполне несостоятельным.
Он заговорил о том, что его теперь тревожило и волновало. Читая и учась много, он менее всего готовился быть сельским хозяином. Присматриваясь теперь к хозяйству дяди и окрестных крупных землевладельцев, он начал приходить к заключению, что он никогда не будет вообще хозяином. Тут нужно быть кулаком, эксплоататором отчасти, чтобы подешевле добыть рабочих, чтобы заставить их работать неустанно, чтобы держать их в страхе. Тогда получатся и барыши.
— Может быть, даже и в настоящее переходное время есть другой путь для того, чтобы не обижать ни других, ни себя, — прибавил он, — но этого пути я еще не вижу совсем; знаний у меня, может быть, для этого нет. Идти же общим путем, то есть знать, что каждый лишний грош нужно выжимать из ближних, что благосостояние надо сколачивать из чужих пота и крови, для этого — не скажу, что я для этого слишком мягок, добр и честен, нет, — белоручка я слишком для этого покуда…
— Для чего вы стараетесь умалить свои достоинства? — спросила она.
— Да еще сам я не вижу их, — просто ответил он. — Вон, в первую минуту разорения согласился же жениться по расчету и отказался от этой подлости вовсе не по личной добродетели. Я же это отлично сознаю и вовсе не желаю скрывать от себя. Играть в прятки и в жмурки с самим собою — это значит самому тащить себя в омут падения… Потом в моей жизни была ошибка…