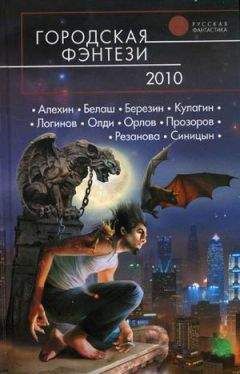Случилось чудо. Ей, Наде, предстояло выйти на сцену Большого в образе Святой Девы. И иначе как чудом назвать это было нельзя!
* * *
Надя теперь довольно много общалась с Громой — тот расспрашивал её о щенке, пришел в полный восторг от клички, придуманной Надей, наставлял её во всех тонкостях воспитания и кормежки. Он был мил, внимателен, но его, как и любого другого, — отделял от неё непроницаемый защитный экран. Она не воспринимала людей. Зато с жадным интересом впитывала все, что только возможно было узнать о великой актрисе.
Надя сама попросила Георгия помочь ей с работой над ролью, и он читал ей целые лекции о символистском театре, о поэтах начала века, о самой Вере Федоровне — натуре мятущейся, страстной… Он притащил ей из дому альбом «СОЛНЦА РОССИИ».
— Ты подумай только, — восхищался Гром, — именно СОЛНЦА — ЦА! — во множественном числе… Их тогда много было в России — этих солнц. И с каким поклонением относились тогда к звездам театра!
Этот громадный альбом весь целиком посвящен был Вере Комиссаржевской пятой годовщине её смерти. Там было множество фотографий, отрывков из писем, воспоминаний… Надя буквально «заболела» Комиссаржевской, обнаружив в ней такую мучительную душевную боль, такой нерв и такие исступленные метания духа, — на грани душевного срыва, — которые были чрезвычайно понятны и близки ей самой.
Боже сохрани! — Надя и не думала возноситься и сравнивать себя с нею. Даже в мыслях не было… Нет, её зацепила общность пути, общность цели. И Вера Федоровна незримо и незаметно взяла её за руку и повела за собой.
Надя читала и перечитывала её письма, которые нельзя было воспринимать равнодушно. Она читала: «Впечатлительность моя создала тот хаос, в котором я живу, хаос, в котором непроизводительно треплются силы духа.»
«Доходили ли вы когда-нибудь до полного отчаяния, до мучительного осознания своего бессилия, до горького обидного сознания, что разум не в силах обнять, а душа воспринять всей полноты бытия… все это вы переживали когда-то, но уснули, уснули навеки все эти порывы, дающие так много мук и наслаждений… Не было возле вас женщины-друга, которая должна была дать вам ту поддержку, которая так нужна каждому человеку… Она не дала бы иссякнуть живому источнику, не дала бы никогда падать духом, не позволила бы утратить энергию, сумела бы вовремя внушить, доказать, что удачи никого не делали лучше и умнее, что жизни и свободы достоин только тот, кто не теряется под их ударами, а завоевывает их каждый день.»
Эти последние слова, почти в точности совпадающие со строчками Гёте: «Лишь только тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!», вызывали в душе жар согласия.
Именно, — думала Надя, — именно так! Вот я и воюю…
Но что-то в ней не соглашалось с этой войной, не принимало её, сигналило: все не так! Она с горечью думала, что и ей, как адресату Веры Федоровны, пригодилась бы сейчас женщина-друг. Мудрая и спокойная. Полная противоположность ей самой… Но Наде казалось, что теперь она не так одинока — что таким другом ей стала сама Вера Комиссаржевская.
«В эту минуту в е ч н о с т ь говорит с вами через меня. Да, да, вечность, потому что редко моя душа бывает так напряжена, как сейчас, и так прозорливо видеть все — она может только в т а к и е минуты, и я чувствую, что я ещё должна жить и с д е л а т ь ч т о — т о б о л ь ш о е, и это сознание вызвано не чем-нибудь, поверхностным, человеческим, нет, это голос Высший, и грех тому, кто не ответит на мой призыв в такую минуту… Вот когда хотелось бы иметь возможность вывернуть душу и показать всю, дать потрогать, как Фома трогал рану Христа.
В ней много сейчас красоты, а т а к а я к ра с о т а — большая сила и именно та сила, которая может и должна мир двигать. Если бы вы знали, как я ясно чувствую… что мне поручили что-то важное, а я занялась пустяками и почти забыла об этом важном, а его легко могут расхитить, и я буду нищая, нищая.»
Со всей искренностью своей импульсивной натуры Комиссаржевская старалась передать друзьям то, что чувствовала — иногда сбивчиво, путано, иногда — попадая в точку! Казалось, сквозь времена Вера Федоровна наблюдала за Надей, быть может, потому что они были в чем-то похожи…Она протянула ей руку помощи, говорила с ней, ободряла, давала силы. Они встретились в пространстве культуры, точкой пересечения стала роль Беатрисы, и свет Комиссаржевской, пробившийся сквозь сумрак времен, показался Наде долгожданной помощью свыше.
«Вы помните сказку о Царе Салтане, помните, как сын царя… которого пустили в море… в один прекрасный день потянулся в бочке, встал, вышиб дно и вышел прочь. Мне кажется, в жизни каждого человека бывают такие моменты, надо только „потянуться, встать и выбить дно“, но одни его пропустили, другие не заметили, третьи кто сознательно, а кто бессознательно заставили замолчать в себе это требование, а вот по какому-нибудь (случаю) выпадет минута, когда прислушаешься к себе и вдруг она совпала с тем моментом, когда требование это заглушило все голоса. Все кругом что-то не то и это не то — не в других, а в тебе! Не так все надо, все иначе — надо „потянуться, встать“.»
И прочтя эти строчки письма, Надя убедилась вдруг — разом, не думая, не рассуждая, — что миг, когда надо потянуться и встать, настал для нее… Что история с котом — это прыжок над бездной, вопрос, заданный свыше, и от того как она на него ответит, зависит вся её жизнь.
Было четверть шестого.
Надю клонило в сон…
По мосточку, перекинутому над оркестровой ямой, она проскользнула в зрительный зал и пристроилась сбоку в партере, стараясь не привлекать внимания.
На сцене устанавливали декорации второго акта «Баядерки» — старинного балета Мариуса Петипа на музыку Минкуса, возобновленного Бахусом в новой редакции. Сегодня — в сочельник под Рождество шла первая сводная репетиция с оркестром.
Спешить было некуда, на вокзал можно было не ездить — нынче по расписанию абаканского поезда не было, о чем Надя загодя предупредила своих охранников — вот уже третий день они исправно сторожили подъезд её дома и встречали на Курском злополучный состав «Абакан — Москва».
По всем расчетам Василий Степанович вот-вот должен был появиться, но его все не было… а Надя смертельно устала. Ей вдруг захотелось просто незаметно посидеть в зале и поглядеть репетицию. Так и сделала. Удобно откинувшись на мягкую спинку кресла, она вытянула скрещенные ноги, поплотней запахнула на груди махровый халат, — как покойно, как хорошо! Никто её не видит, никто не тревожит, — в зале тишь, полумрак… забытье.
Она замерла в предвкушении радости — того восторга, который дарил ей Большой Балет. Захотелось раствориться в этом восторге, предаться ему без остатка, позабыв все… все! Словно живою водой умыться…
Да, он был уж не тот, что прежде, — балет Большого! Но все же, все же… Она верила в него. Душу вкладывала в него. Она ждала.
На сцене в лиловатом халате до пят появилась Маша Карелина исполнительница роли Гамзатти, дочери индийского раджи. С нею Бахус. Увлеченно объясняет что-то, показывает — седой, сухощавый, изломанный. Постарел.
Наде вдруг стало жаль его — последние дни доживала его разоренная, когда-то поистине великая империя! И это стало ей вдруг так ясно, что слезы помимо воли навернулись на глаза… Ведь эта империя — часть её жизни. И Бахус, творец целой эпохи в истории русского балета, уже не принадлежит настоящему — он обратился в соляной столб, подобно жене Лота, посмевшей обернуться назад, несмотря на запрет!
Да, — подумала Надя, — как художник он уже мертв, живой дар угас в нем. Это ведь тоже выбор: либо творчество, либо власть. А Бахус выбрал второе. Может быть, это и не было для него осознанным шагом: просто тяга к утверждению своего «я» здесь, на грешной земле, в амбициозном пространстве званий и титулов, оказалась в нем сильнее огня… неслышного гула пламени, зова, который уносит прочь от земных сует. Можно сказать и так, усмехнулась она про себя, — что сила гравитации загасила в нем тот огонек, который нагревает воздух в воздушном шаре, чтобы корзина с воздухоплавателем взмыла под облака… Он стал слишком тяжел, наш Бахус… Четвертый балет наследия возобновляет — и это спустя восемь лет после последней оригинальной авторской постановки. Вот и выходит, что прошлое для нас — самая живая реальность! Больше жить нечем.
Она полуприкрыла глаза, на миг все поплыло… но, тряхнув головой, отогнала дрему — уж очень хотелось поглядеть репетицию.
Надя глядела на сцену, но незваная ностальгия все крепла — она укрыла лицо в ладонях. Какие прекрасные творения дарило нам прошлое! Ими-то и дышим, в них черпаем силы, чтобы хоть как-то перемочь безвременье.
Фокин, Горский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Спесивцева… Дягилев. Ворожба Русских сезонов! Этого мы не ведаем, это для нас легенда — матовая призрачность фотографий, ирреальная яркость эскизов Бакста и Головина, только ещё больше подтверждающая невозможность живого прикосновения…