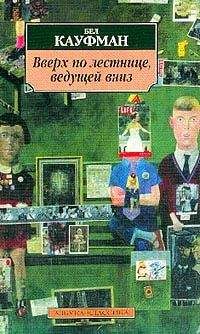Теперь у Шошиа только одно желание. Одно главное желание. Все остальные его желания вытекают из этого, главного. Родилось оно давно когда Шошиа лежал навзничь на нарах и наблюдал, как паук по собственной паутинке спускался с потолка… Вот тогда и захотелось Шошиа превратиться в паука. Хотя бы на час! Но потом он передумал. Во-первых, час это мало. Ведь надо по паутинке спуститься с пятого этажа, пересечь двор, войти в административный корпус. Там вечно толкается народ, чего доброго, кто-то наступит на паука ногой и раздавит… Поэтому придется сползти по стенам, добираться прямо до ворот… Нет, одного часа не хватит, понадобится не менее двух часов!.. Во-вторых, не вечно же ему оставаться пауком? Что это за жизнь – паучья? Вот если б превратиться в скворца! Расправил бы тогда Шошиа крылья и полетел бы куда душе угодно!.. И если даже придется на всю жизнь остаться скворцом – ничего страшного! Пусть он будет скворцом! Он станет по нескольку раз в день прилетать домой, любоваться детьми… А вдруг его убьют?! Очень просто! Пальнет кто-нибудь из ружья, или, чего доброго, свои же дети укокошат из рогатки! Да нет, глупости! Где это видано, чтобы убивали скворцов! Наоборот, им строят скворечники, их кормят… А впрочем, к черту пауков и скворцов! Шошиа хочет быть человеком! Человеком! Дайте, дайте Шошиа волю, выпустите его отсюда, и он начнет новую жизнь! Шошиа переменит имя, фамилию, Шошиа родится заново!..
Увы! Для того чтобы родиться заново, человек прежде должен умереть… Увы! Шошиа не знает этого…
С добрым утром, мой Тбилиси дорогой!
Хочешь знать – откуда плач и ропот мой?
Подружился, горемыка я, с тюрьмой…
Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
Бьет, гудит сионский колокол святой,
Простираю к нему руки я с мольбой…
Предан был я другом верным – не судьбой!..
Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
Мтквари-матушка, великая река!
Глупо угодил я в сети рыбака!
Пожалей же ты беднягу бедняка!
Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
Путь окончен мой, могилу вижу я,
Тяжкий грех я уношу с собой, друзья!
День и ночь я проклинаю сам себя…
Бедной пташке дайте, люди, крылья!..
Сидит Шошиа на своей галерке и поет, Шошиа мечтает о крыльях. Но где их взять, крылья? В наши дни крыльев нет у самих ангелов, кто же их даст Шошиа? Знает, знает об этом Шошиа, и все же он поет… Если бы сейчас здесь был Тигран, он наверняка придрался бы к Шошиа, что эти стихи принадлежат Этиму Гурджи[43], но написаны-де они вовсе не так. Шошиа и об этом хорошо известно. Но он все же поет, потому что Этим Гурджи плакал о своем, а Шошиа плачет о своем…
– Шошиа, будь человеком, перестань нюнить и хныкать, спой или расскажи что-нибудь веселое! – прошу я.
– До ареста у меня было одно место на Майдане… Из грузин лишь я да ещё несколько человек о нем знали… Раньше я не стал бы рассказывать тебе, а теперь чего уж скрывать… Так вот, выйдешь отсюда, сходи обязательно! Назови моё имя – откроют в любое время дня и ночи…
– Да кто меня отсюда выпустит, Шошиа?
– Тебя выпустят!
– Почему ты так думаешь?
– Потому что нет на свете тяжелее греха, чем держать в тюрьме невинного человека.
– Я не первый, не последний, Шошиа!
– Это верно. Половина всех узников в мире сидит без вины… По крайней мере, попались они случайно… А тебя, вот увидишь, отпустят не сегодня, так завтра! – Заверил меня Шошиа таким тоном, словно решение о моем освобождении лежало у него в кармане и он скрывал его лишь из боязни остаться в камере один.
– Твоими бы устами да мед пить! – обрадовался я.
– Так вот, про Майдан… Было у меня там одно местечко… Около пестрых бань, если идти отсюда – по левой стороне. Одноэтажный дом, деревянные ворота выкрашены в голубой цвет. Внутри – крохотный, с николаевский пятак, дворик… Хозяина зовут Азиз. Запомни: Азиз, татарин… Он там содержит собственную чайную… С девочками!.. Поверь, я ходил туда исключительно ради чая… И днем и ночью… О, настоящий чай! Ты не знаешь, что такое настоящий чай! Но сейчас не об этом речь. Есть у Азиза одна комната, где он принимает клиентов…
– Как же так! – удивился я. – Человек имеет частную чайную, не чайную, а бордель, и никто его не трогает?!
– Эх, дорогой мой, сколько я там видел людей, кому именно и положено ловить таких частников… Нам бы с тобой столько червонцев… – произнес Шошиа мечтательно.
– Не верю!
– Поспорил бы я с тобой, да где тебя потом искать!.. Говорю, выйдешь отсюда, сходи к нему, сам увидишь… Учти только, чай у Азиза чуть дороже того, что продают в чайной напротив университета. Понял?
– Понял…
– В той комнате – пять маленьких столиков. Каждый столик – на двоих, на парочку… Над каждым столиком висит клетка с канарейкой. Пять клеток… И каждая канарейка берет не меньше пяти октав, а то и больше. Цена такой канарейке от ста пятидесяти до двухсот рублей… Ты, наверно, слышал – соловей в году поет три месяца, начиная с мая. А канарейка поет круглый год! Теперь представь себе эту комнату. Полумрак… Воздух пропитан ароматом чая, восточных пряностей и сигаретного дыма… В комнате тепло… Поют канарейки… Чай, канарейка и… любовь. А? Представляешь себе? Ничего слаще я не видел. Это был рай… Уходя, я оставлял Азизу, лично Азизу, сто рублей… Не вздумай только спрашивать – откуда да каким образом я доставал деньги… Доставал! Ведь терпят верующие? Мучаются и терпят. А зачем? Чтобы после смерти попасть в рай! И я терпел, мучился, из кожи лез вон, чтобы попасть в этот рай. Ну, ладно… Канарейки, знаешь, они до того привыкают к клетке, если выпустить – умрут! Потому что не в состоянии прокормить себя. Если даже найдется канарейка, способная найти себе корм, все равно она погибнет – сожрет кошка. А почему, знаешь? Потому что поющая канарейка забывает обо всем на свете. Она поет, закрыв глаза, ничего не замечая вокруг себя. И кошка легко подбирается к ней… Одним словом, канарейка и клетка – неотделимы. Но и в клетке канарейки умирают. Азиз жаловался мне, что его канарейки умирали через два-три месяца, – не выдерживали табачного дыма и спертого воздуха. Канарейки умирают в раю! А ты хочешь, чтобы я жил здесь да ещё рассказывал тебе веселые истории? Нет, не получится, дорогой Заза!
– Что с тобой говорить, Шошиа, у тебя мозги набекрень!
– Кто же их должен выправить?
– Кто – не скажу, но тот, кто возьмется за эту операцию, должен иметь очень чистые руки. Знаешь ведь, мозги вещь нежная…
– Да не такой уж я безнадежный больной, Заза! Вот если случится чудо и меня простят…
– Простят?
– Ну, не простят, конечно, но… Если дадут мне мало…
– Сколько, например, Шошиа?
– Скажем, пятнадцать… Нет, пятнадцать – это много!.. Десять, девять, семь… Пять! – Шошиа взглянул на меня глазами побитой собаки. Я отвел взгляд.
– Ладно, дали тебе пять лет… Что ты сделаешь?
– Как только вернусь, повидаю детей!
– Потом?
– Потом… Прогоню жену!
– Потом?
– Потом приду к Сиран и скажу: "Сиран, дорогая моя, пойдем ко мне…" – Шошиа, точно поющая канарейка, закрыл глаза… Я громко рассмеялся.
– Ты чего?! – вздрогнул Шошиа.
– Знаешь, Шошиа, ты со своей Сиран напоминаешь анекдот про того сумасшедшего, который бил окна…
– Какого сумасшедшего?
– О, это старый анекдот…
– Расскажи, для меня все анекдоты – новые! – попросил Шошиа.
– Ходил по Тбилиси один сумасшедший и бил в окнах стекла… Одевался он чисто, был вежлив и добр, не попрошайничал. Вот только ходил и бил стекла.
– Как это – бил стекла? А куда смотрела милиция? – удивился Шошиа.
– Дай же рассказать!
– Ну, ну!
– Милиция его ловила, отводила в дом умалишенных. Держали его там неделю, потом, видя, что он человек вполне нормальный, брали с него расписку и освобождали…
– Дальше?
– Дальше повторялось все сначала. Каждый день он разбивал не меньше пятнадцати стекол. Только бил с умом, – менял кварталы. В старых-то его уже знали…
– Ты смотри!
– Так он обошел весь город… Теперь считай: в году 365 дней. В среднем по 15 окон, это
365
x
15
–-----
1825
+
365
–-----
5475
пять тысяч четыреста семьдесят пять оконных стекол!
– Как же он их бил?
– Стрелял из рогатки!
– Ва-а!
– Теперь, если учесть, что вставить каждое стекло стоит три – пять рублей, в среднем четыре рубля, то получится, что он причинял городу убыток
5475
x
4
–-----
21900
в двадцать одну тысячу девятьсот рублей новыми деньгами. Это, брат, годовой бюджет некоторых районов!.. Наконец поймали его и опять поместили в сумасшедший дом. На сей раз продержали его долго. Ждал он месяц, другой, третий, год, – видит, плохо дело, не выпускают. Пошел тогда он к врачам и спросил:
– Что вы собираетесь делать со мной дальше?
– А что ты сам собираешься делать? – спросили врачи. – Как ты себя чувствуешь?
– Я всегда чувствовал себя хорошо, а теперь – просто отлично! обрадовал он врачей.