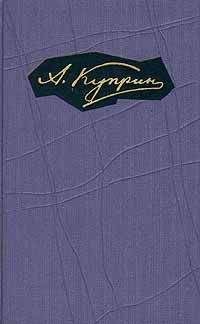Наконец мы добрались до ресторана и заказали себе гуляш и масляш. Первое — какое-то национальное мясное кушанье пополам с красным перцем, а второе — приторное венгерское вино. Пока мы ели, в крошечную залу набралась густая толпа гусятинских обывателей, созерцавших с откровенным любопытством чужеземных гостей. Потом трое человек из этой толпы подошли и поздоровались с доктором — он тотчас же представил их нашим дамам. За этими тремя подошло еще четверо, потом еще человек шесть. Что это были за субъекты, — я до сих пор не могу себе представить, но несомненно, что все они занимали административные должности. Между ними находился какой-то пан-комисарж, и пан-подкомисарж, и пан-довудца, и еще какие-то паны. Все они ели с нами гуляш, пили масляш и поминутно говорили дамам: «служу пани» и «падам до ног панских»… В заключение пан-комисарж просил нас остаться до вечера и посетить назначенный на этот день складковый бал. Мы согласились.
Все обстояло самым прекрасным образом, и наши дамы с увлечением носились в вихре вальса с своими новыми знакомыми. Нас, правда, немного поражал заграничный обычай: каждый танцор должен сам заказывать для себя танец, платя за него музыкантам двадцать копеек. С этим обычаем мы вскоре примирились, но пассаж не замедлил произойти, и совсем для нас неожиданно.
Кому-то из нас захотелось пива, и он сказал об этом одному из наших новых знакомых — представительному черноусому господину с великолепными манерами, про которого наши дамы решили, что он непременно должен быть одним из окрестных магнатов. Магнат оказался чрезвычайно любезным человеком. Он крикнул: «зараз Панове!», исчез на минутку и тотчас же воротился с двумя бутылками пива, штопором и салфеткой под мышкой. Обе бутылки были им открыты с таким удивительным искусством, что наша полковница даже выразила вслух свое одобрение. На ее комплимент магнат возразил со скромным достоинством: «О, это для меня дело привычное, сударыня!.. Ведь я же служу в этом самом заведении кельнером!» Конечно, после этого неожиданного признания наша компания оставила австрийский бал с поспешностью, даже несколько неприличной. В то время, когда я рассказываю, Кэт звонко смеется, наша лодка огибает островок и въезжает в узенький канал, над которым свесившиеся с обоих берегов деревья образуют полутемный, прохладный свод. Здесь пахнет сильно болотной травой, вода кажется черной, как чернила, и кипит под веслом.
— У! Как хорошо! — восклицает Кэт и содрогается плечами. Так как разговор грозит иссякнуть, я спрашиваю:
— Вам, вероятно, очень скучно в деревне?
— Очень скучно, — отвечает, чуть-чуть помолчав, Кэт и небрежно прибавляет, бросая на меня быстрый кокетливый взгляд: — по крайней мере до сих пор. Еще пока летом гостила здесь моя подруга, — вы ее, кажется, видели? — тогда хоть было с кем поболтать…
— Разве у вас совсем нет знакомых среди окрестных помещиков?
— Нет. Папа никому не хотел делать визитов… Ужасно скучно… По утрам на мне лежит обязанность читать вслух бабушке «Московские ведомости»… Вы не поверите, какая это тоска!.. В саду так хорошо, а тут изволь читать про какие-то конфликты между просвещенными державами и про сельскохозяйственный кризис… Я иной раз с отчаяния возьму да пропущу строк двадцать или тридцать, так что во всей статье не останется ровно никакого смысла… Бабушка, однако, далека от подозрения и часто удивляется: «Ты замечаешь, Кэт, как нынче непонятно стали писать?» Я, конечно, соглашаюсь. «Действительно, бабушка, очень непонятно». Зато, когда чтение кончается, я чувствую себя как школьница, отпущенная на каникулы…
Разговаривая таким образом, мы катаемся по озеру до тех пор, пока не начинает темнеть… При прощании Кэт фразой, брошенной вскользь, дает мне понять, что ежедневно утром и вечером она имеет обыкновение гулять по саду. Это все случилось вчера, но я не успел ничего вчера записать в дневник, потому что все остальное время до полуночи лежал на кровати, глядел в потолок и предавался тем несбыточным, невероятным мечтам, которые, несмотря на их невинность, совестно передавать на бумаге.
Сегодня мы опять встретились, но уже без малейшего смущения, как старые знакомые. Кэт необыкновенно добра и мила. Когда я в разговоре выразил, между прочим, сожаление, что прискорбный случай с лодкой сделал меня в ее глазах смешным, она протянула мне откровенным движением руку и произнесла незабвенные слова:
— Будемте друзьями, monsieur Лапшин, и не станем вспоминать об этой истории. И я знаю, что ласковый тон этих слов никогда не изгладится из моей памяти никакими другими словами. Во веки веков.
20 сентября
О, я не ошибся. Кэт действительно вчера намекала на то, что нам можно ежедневно утром и вечером встречаться в саду. Жаль только, что она сегодня была не в духе по причине сильной головной боли. Вид у нее очень утомленный: глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее обыкновенного.
— Вы не обращайте особенного внимания на мое нездоровье, — сказала она в ответ на мое соболезнование. — Это пройдет… Я приобрела нехорошую привычку читать в постели. Не заметишь, как увлечешься, и читаешь часа три подряд, а потом начинается бессонница. Потом, полушутя, полусерьезно, она спросила:
— Вы не умеете гипнотизировать?
Я отвечал, что не пробовал, но, вероятно, сумею.
— Возьмите меня за руку, — сказала Кэт, — и глядите мне пристально в глаза. В то же время мысленно приказывайте, чтобы моя голова перестала болеть. Я так и сделал. Ее маленькая, холодная и узкая ручка легла слабо в мою руку. Глядя в большие черные зрачки Кэт, я старался сосредоточиться и собрать всю силу воли, но глаза мои смущенно перебегали с глаз на губы. Был один момент, когда мои пальцы нечаянно дрогнули и чуть-чуть сжали руку Кэт. Как будто бы в ответ на мое бессознательное движение, я тоже почувствовал слабое пожатие. Но, конечно, это произошло случайно, потому что тотчас же она выдернула свою руку со словами:
— Нет, вы мне не поможете. Вы совсем о другом думаете…
— Напротив, я думал о вас, mademoiselle Кэт, — возразил я.
— Может быть. Но только доктора никогда не глядят такими глазами. Вы нехороший…
Я — нехороший! Свидетель бог, что ни одна дурная мысль, даже ни один оттенок дурной мысли не шевельнулся у меня в голове. Или, может быть, мое несчастное лицо имеет способность выражать вовсе не то, что я чувствую?
Однако — странная вещь — замечание Кэт вдруг заставило меня впервые почувствовать в ней женщину, и мне стало неловко.
Так мой опыт гипнотизирования и не удался. Мигрень у Кэт не только не прошла, но с минуты на минуту становилась все сильнее. Когда она уходила, ей, вероятно, стало жаль видеть мое разочарованное лицо. Она позволила мне на секунду более, чем следовало, задержать ее руку и сказала: — Вечером я не буду гулять. Подождите до завтра.
Но как это было хорошо сказано! Какое значение может иногда женщина вложить в самую пустую, самую обыденную фразу. Это «подождите» я перевел таким образом: «Я знаю, что вам очень приятно со мной видеться, мне это тоже не противно, но ведь мы можем встречаться ежедневно, и времени у нас впереди много — не правда ли?» Кэт дает мне право ждать себя! У меня даже голова кружится от восторга при этой мысли.
Что, если простое любопытство, знакомство от скуки, случайные встречи перейдут во что-нибудь более серьезное и нежное? Блуждая после ухода Кэт по дорожкам сада, я невольно мечтал об этом. Ведь ни о чем не запрещено мечтать ни одному человеку? И я представлял себе, как между нами возникает пламенная, скромная и доверчивая любовь, ее первая любовь, моя, хотя не первая, но зато самая сильная и последняя. Я представлял себе ночное свидание, скамейку, облитую кротким сиянием луны, голову, доверчиво прижавшуюся к моему плечу, и сладкое, еле слышное «люблю», робко произнесенное в ответ на мое пылкое признание. «Да, я люблю тебя, Кэт, говорю я с подавленным вздохом, — но мы должны расстаться. Ты — богата, я бедный армейский офицер, у которого нет ничего, кроме безмерной любви к тебе. Неравный брак принесет тебе несчастье. Ты будешь потом упрекать меня». — «Я люблю тебя и не могу без тебя жить! — отвечает она. — Я пойду за тобой на край света». — «Нет, дорогая, нам нужно расстаться… Тебя ждет иная жизнь… Помни только одно, что я никогда, никогда в моей жизни не перестану любить тебя».
Ночь, скамейка, луна, поникшие деревья, сладкие слова любви… Как все это возвышенно, мило, старо и… глупо. Вот и теперь, пока я пишу эти строки, капитан, только что выпивший на ночь «петуховки», кричит мне из своей постели:
— Что это вы все строчите, поручик? Уж не стихи ли часом? Вот бы разодолжили таким «бэгэрэдством».
Капитан, кажется, больше всего на свете ненавидит стихи и природу… Кривя рот в сторону, он говорит иногда:
— Стишки-с? Кому это нужно-с?