в голову, что должен обучаться русской филологии в Донецком государственном университете. В те годы я ловил на себе сочувствующие взгляды женщин, читавших нам те или иные дисциплины на факультете. Эти взгляды выражали сочувствие, но как бы не мне самому, а больше даже моим родителям. Умудренные жизнью и филологией дамы смотрели так, будто на годы вперед видели все, что со мной произойдет в дальнейшем и это дальнейшее не то чтобы их огорчало, но определенно не радовало. В этих участливых, усталых и немного ироничных взглядах светился застарелый, как запах дегтя, цинизм Евы, защитившей кандидатскую диссертацию в советское время. «Карл Маркс и Фридрих Энгельс указывали на необходимость различать подлинно народную литературу и буржуазно-либеральную. Последняя, как правило, обслуживает исключительно интересы правящего класса, оставляя без внимания народные чаяния и нужды…» Впрочем, думается, Еве вообще нечего делать на этом поприще, которое в любые времена взыскует кроме практической сметки и хитрости еще и искренней веры в слово, да хотя бы и отдаленной любви к нему.
Сев за студенческую парту практически сразу после демобилизации из рядов советской армии, я ощущал в себе волнение, томление и жгучую тоску, происходившие от непримиримой вражды моей души с ее собственным телом. Острая ненависть к самому себе сочеталась с приступами такого безудержного самолюбования, что иной раз даже мне самому становилось за себя совестно. В те годы мне никак не удавалось найти между этими двумя совершенно противоположными чувствами правильную пропорцию или хотя бы сносный компромисс. Большую часть времени я проводил, вдохновенно красуясь перед окружавшими меня девушками или прозябая в тихой ненависти к самому себе и пытаясь при этом выглядеть хоть ненамного более пристойно, чем я чувствовал себя изнутри.
Однажды замдекана привела в группу симпатичного парня и сказала:
— Этот студент из дружественной нам Мексики будет обучаться теперь в вашей группе.
Звали парня из дружественной Мексики Арнальдо. И был он в те годы у нас на факультете не один такой. Помнится, еще какие-то иностранцы желали овладеть основами могучего и великого языка Пушкина и Достоевского, а также профессоров Г. и Ф., лекции которых не только наши иностранцы, но и большинство прочих студентов слушали приблизительно так же, как слушали бы музыку Вагнера ученики профессионально-технического училища при камвольно-прядильной фабрике. Если бы, конечно, кто-нибудь предоставил этим ученикам такую возможность.
Сразу хочу сказать, что до сих пор не понимаю, что мог делать на русском отделении филологического факультета мексиканец с такими глубокими и грустными глазами. Явно не изучать русский язык, но если не это, тогда что? Вот вопрос! Надо отдать ему должное, Арнальдо и сам чувствовал условность и зыбкость собственного пребывания в данной учебной группе, в данном вузе, на данном факультете, в этом городе и в нашей с вами стране. Вообще понимание произвольности и случайности того, что с нами происходит в жизни, при несомненной уверенности в закономерной благости общего хода событий, было его сильной стороной.
— Как дела? — спросил я его однажды.
— Всегда все хорошо пока! — лучезарно улыбаясь, ответил он, стоя под дверью кафедры, которая настаивала на том, чтобы оставить его на втором курсе еще на один год.
Вообще-то, мы с Арнальдо никогда не были друзьями. Общались мало, нерегулярно, да и большая часть нашего общения сводилась к малозначащим фразам. Помню, при встречах я ему говорил:
— Привет, дитя Латинской Америки!
Его, кажется, это приветствие немного задевало, и он пытался ответить мне что-нибудь ироничное в ответ, но без особого успеха.
Как-то я попытался узнать у него, как так вышло, что он учится именно здесь и изучает именно русский язык, поинтересовался тем, как русский язык поможет в его дальнейшей жизни в Мексике. Не знаю, зачем я задавал эти вопросы.
Подумав минут двадцать он, наконец, ответил:
— Не хочу больше в Мексику. Хватит!
— Что хватит, Арнальдо? — не понял я.
— В Мексику хватит пока! — убежденно произнес он. — Донецк форева!
— А что так? — поинтересовался я. — А как же Латинская Америка? Красивые женщины, прекрасная музыка, древняя история? Ацтеки, майя, Мачу-Пикчу? Мама, папа, в конце концов?
— Мексика — нет пока! — сказал Арнальдо, глядя на меня, как Хулио Бандерас на сироту. — Донецк — да!
Этим мне пришлось и удовольствоваться.
Почти сразу у нас начались лекции профессора Г. Это была теория литературы в первом приближении. Так сказать, первые отзвуки той симфонии интеллекта, которая, раз начав звучать, уже не оставляла нас в покое ни днем, ни ночью.
Мы сидели с Арнальдо рядом и смотрели на профессора. Он складывал на груди маленькие интеллигентные ручки и, вперяя в нас свой прозрачный, как слеза, и исполненный истины взор, говорил о единстве содержания и формы в литературном произведении. Типичный серафим на перепутье. Бархатные академические крылья топорщились из-под коротковатого пиджачка, хотя при этом было ясно, что взгляд профессора слишком умен и проницателен, чтобы принадлежать ангелу. Лекции были безупречны как по форме, так и по содержанию, но не несли никакого практического смысла. Ничего из того, что мы тогда услышали, нам ни разу не удалось применить в жизни. Редчайший случай, кстати. Как жаль, что мы оказались настолько бестолковы. Уже гораздо позже я подумал о том, что этот профессор, как, впрочем, и тот, другой, были нам даны не в качестве источника знаний, а в качестве источника света, но мы этого так никогда и не осознали.
Когда лекция закончилась, Арнальдо не тронулся с места. Какое-то время он продолжал смотреть перед собой, а потом, повернувшись ко мне, спросил прямо:
— Ты понял, что она сказала?
Не могу сказать, что понял, «что она сказала», но слова в лекции все были, в принципе, знакомыми, поэтому я ответил, что понял.
— I can’t believe it! Pesadilla! Кошмар, Вольодя, кошмар пока! — произнес он, добавил несколько невнятных ругательств на испанском и, махнув рукой, ушел.
Приблизительно где-то в это время у меня началась полоса многолетних утомительных влюбленностей, которые проходили на одном и том же фоне. Этим фоном был бульвар Пушкина. Тогда еще он был обставлен зелеными массивными советскими скамьями и обсажен высоченными деревьями. Он не мог похвастать ни скульптурными излишествами, ни разнообразием растений, ни удручающим количеством заведений общественного питания, которые свойственны ему сейчас. Если я все помню правильно, на бульваре были пельменная, сосисочная и кафе, отделение почты и несколько магазинов на примыкающих улицах. Серый асфальт с выбоинами и заплатами и множество скамеек. И шумящие кроны старинных акаций и тополей в синем небе, если ты смотрел на них, ощущая затылком холодную ребристую поверхность скамейки.
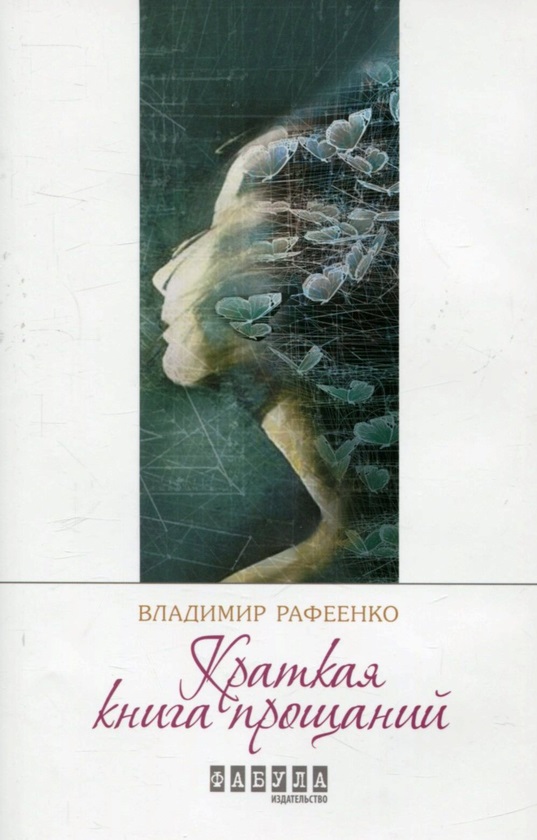

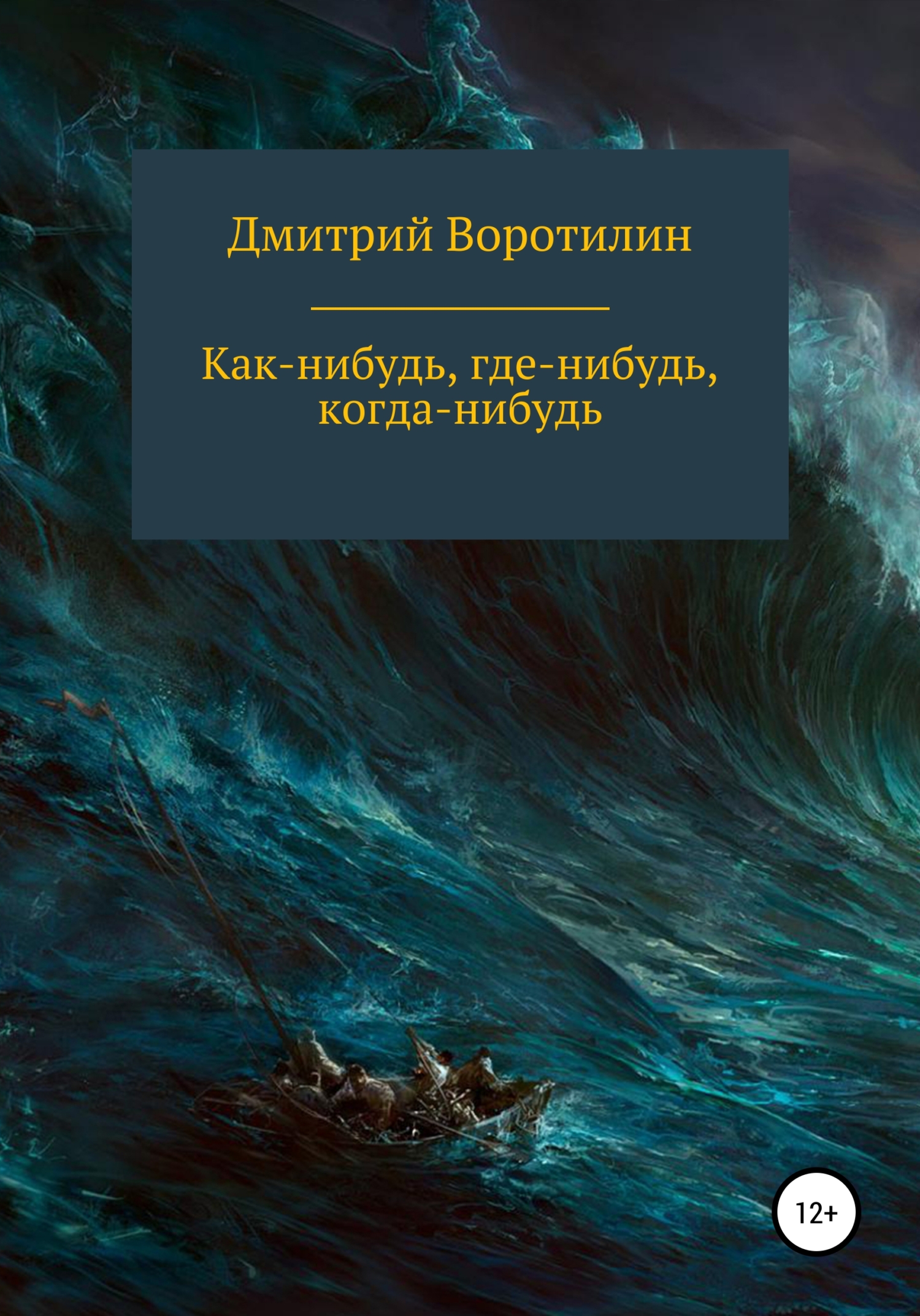
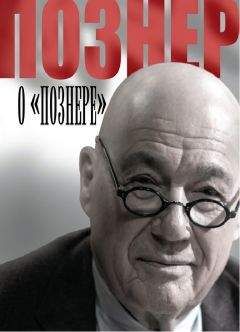
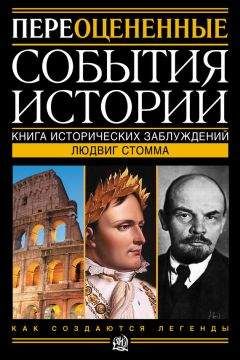
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/120215/120215.jpg)