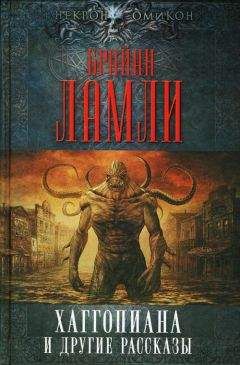вот так, за разговором, почти случайно и без какой-либо определенной цели они по козьей тропе двинулись в гору, исчезнув из поля зрения Давида и направившись туда, куда, по его мнению, он никогда не сможет попасть и где интереснее и таинственнее всего.
Давид следил взглядом за немкой и отцом, пока те были видны, а потом продолжал смотреть в том направлении, в котором они исчезли, в ту точку, где он, как ему казалось, видел их в последний раз.
Он воображал, о чем они разговаривают и что с ними происходит.
Его детское время текло медленнее, чем то время, которое, вероятно, без причины называют объективным, поэтому в его голове промелькнуло множество самых разных событий и приключений, которые были ему хорошо видны в той одной маленькой точке, среди гор, за Немецким домом.
Проехал верхом караван турецких торговцев, которые все еще появляются в этих местах, направляясь домой из Венеции. Они похитили Катарину. Отец бросился в погоню за ними. Вон он, верхом на белом коне, сейчас вызовет на поединок турецкого пашу, они сразятся на копьях.
Катарину укусила змея. Она сидит на пне, а отец высасывает яд из ранки на ее голени.
Они оказались в заколдованном лесу, где блуждают души порочных мертвых женщин и разбойников, которые охотятся за телами заплутавших путников, обманом проникают в них и непрошенными гостями продолжают жить чужие жизни. В Катарину забралась красивая и грустная портовая обольстительница, которая жила в Лиссабоне в восемнадцатом веке. Хотя она красивее Катарины, в ней сконцентрировалась вся печаль этого мира, и отцовское сердце вот-вот разобьется, но он храбро сопротивляется ее чарам, и обольстительница в конце концов отправляется назад, в заколдованный лес.
Отец поцеловал Катарину случайно, когда она обернулась что-то ему сказать. Их носы соприкоснулись, а ведь каждый знает, поцелуй это не что другое, как соприкосновение носами.
Давид, уставившись в далекую точку, все это видел. И моргнув, каждый раз становился свидетелем нового события.
Пока они поднимались в гору, к развалинам венецианской сторожевой башни, профессор Томаш Мерошевски ни секунды не чувствовал усталости.
Они останавливались, когда это предлагала Катарина, один раз даже сели на две каменные плиты, лежавшие друг против друга («Это мирила, – сказала она, – на них клали покойников, когда останавливались отдохнуть по дороге до кладбища») и, сидя так, долго разговаривали о судне, которое плыло на горизонте в направлении Риеки, но он ни разу не запыхался и не почувствовал слабости в ногах. Просила ли она о передышке оттого, что устала, или же из сочувствия к его возрасту, он не знал.
Во время этого подъема ему казалось, что он становится все моложе и грустнее.
У него больше ничего не болело. Ноги несли его тело легко, как в те времена, когда он был гимназистом, сердце билось ровно. Он почти не слышал, как оно стучит, медленно и равномерно, будто чужое, а не его. Вчера утром он снова почувствовал ту тупую и глухую боль в груди, которая уже несколько месяцев будила его по утрам и благодаря которой – как они шутили с доктором Блумом – он все еще совершенно точно мог убедиться в том, что жив, но потом снова становилось трудно дышать, как будто в течение ночи кто-то высосал из комнаты весь воздух, и ему приходилось открывать окно и в легкой панике и страхе от возможности внезапной смерти успокаивать себя медицинским заключением, которое он, разумеется, взял с собой в поездку и в котором было написано, что с сердцем у него абсолютно все в порядке, и это своей подписью гарантирует ему тот же доктор Блум.
А теперь, надо же, он словно помолодел на целую жизнь, он быстро поднимается в гору и совсем не задыхается. Однако чем моложе он становится, тем большая грусть охватывает его из-за того, что ему не позволено ничего из того, что позволено молодым, и что он горячо желал бы делать сейчас, но не может, потому что для всех остальных он по-прежнему старик. И для Катарины старик. Возможно, очень энергичный, но старик. Умный, может быть, даже обаятельный и остроумный, не исключено, что сильно отличающийся от всех, с кем она когда-либо была знакома. Но все-таки старик.
Тут ему в голову пришла странная мысль, что раздающийся в его ушах звук, возможно, вовсе не стук его сердца, что сегодня утром, когда он после урагана ненадолго заснул, кто-то просто поменял его тело, поменял так, как меняют рубашку, туфли и костюм.
– Что вы об этом думаете? – спросил он у Катарины.
От такого предположения она по-детски искренне рассмеялась:
– Нет, дорогой профессор, я гарантирую вам, что это вы. Можете не беспокоиться. Просто на вас действует целебный воздух. Если вы останетесь здесь надолго, то превратитесь в настоящего крестьянина. Будете копать картошку и лук, собирать маслины, время от времени таскаться в Цриквеницу и Трибаль, чтобы напиться, и начнете всерьез воспринимать деревенские суеверия.
Она смеялась веселыми и чистым смехом.
Но все-таки он был слегка разочарован. Она словно сказала ему, что он болен неизлечимой болезнью, от которой, правда, не умрет, но будет оставаться больным, покуда жив. Ему тяжело было признать собственную старость, ведь теперь он ее не чувствовал.
– Знаете, Катарина, – он решил сменить тему, – этот Эрнест Вилимовски, он выдающийся человек. Вот только жалко, что спортсмен. Будь он химиком или философом, стал бы таким же выдающимся.
– Вы думаете?
– Да. Человек таким родится, выдающимся или посредственностью, а все остальное добавляется уже по его личному выбору. Поэтому бывают выдающиеся бакалейщики или садовники и бывают посредственные генералы. Наша беда, что у нас великолепные садовники.
– Вы фаталист.
– Это комплимент или критика?
– Иногда первое, а иногда второе.
– Но вы не можете не признать, что Эрнест Вилимовски выдающийся!
– Могу предположить, что это так. Если ваш комментатор на самом деле рассказывал о том, что видел, а не о том, что ему привиделось. Разумеется, я не поняла ни слова. Но поняла, что он был очень взволнован, когда кричал: «Вилимовски, Вилимовски, Вилимовски!»
Она постаралась передать хриплый голос спортивного комментатора и всхлипывающий польский акцент.
Томаш рассмеялся:
– Вы могли бы стать актрисой!
– А кто сказал, что я не актриса? Мы все начинаем играть какую-то роль, когда этого требует жизнь.
– Но вы…
Он хотел сказать, что у нее есть талант, а большинство людей играет без таланта, топорно, неуклюже, но остановился на полуслове, посчитав, что это выглядело бы жалко. Как стариковское ухаживание.
Что ж, в конце концов, несмотря на легкость в