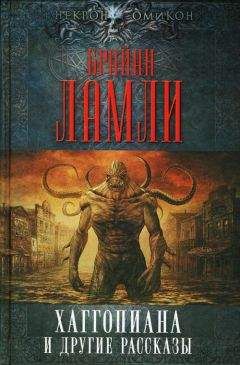ногах и на сердце, которое спокойно и равномерно стучит в ритм с его шагами, он действительно старик. С этим нужно смириться, а не то он будет выглядеть смешным.
Он кашлянул.
– Скажите. Вы что-то начали говорить.
– Не знаю, – он пожал плечами, – в мои годы человек и на середине фразы может забыть, что собирался сказать. Ну а со мной это происходит все чаще.
– Вы надо мной шутите.
– Шучу, но не над вами, – рассмеялся он, – я шучу над собой.
В тот день они не добрались до верха горы и развалин венецианского укрепления, потому что Катарина устала. По крайней мере, так она сказала. Но завтра, добавила, обязательно нужно туда подняться.
Вернулись они раскрасневшимися и потными.
Он шел, закатав рукава белой рубашки, перекинув пиджак через плечо. Илия похлопал его по мокрой спине. Томашу показалось, что его ударило током. Рубашка липла к коже. Так, пожалуй, и заболеть можно, подумал он.
– Перед следующим восхождением вам нужно по-другому одеться! – сказал Илия. И пообещал поискать среди своих вещей что-нибудь подходящее для походов в горы.
У Давида от волнения сердце билось где-то в горле. После их прогулки по горам, которая продолжалась не более получаса, мальчику стало ясно, что началось и продолжается грандиозное любовное приключение отца.
И тут, в тот же день, через некоторое время после обеда, с ним произошло нечто ужасное.
С тех пор как Давид себя помнил, Ружа помогала ему в тех делах, которые при других не упоминают, говорить о них считается стыдным. Она всегда ждала его под дверью уборной, напевая немецкие шлягеры, как бы в шутку, но вместе с тем и чтобы заглушить звуки из его чрева, а потом подтирала и подмывала. Она делала это еще при маминой жизни. Мама Эстер брала на себя такую обязанность лишь несколько недель в году, когда Ружа ездила домой, в деревню. Это было неприятно, потому что к такому делу, или, лучше сказать, к такой интимности, мама была непривычна.
Вскоре после отъезда Ружи у Давида начинался мучительный запор, и для него наступали дни страданий, которые продолжались до ее возвращения. Казалось, он подсознательно блокировал свое пищеварение до тех пор, пока не появится та, с кем его тело было в некой повседневной и постоянной гармонии.
Перед Ружей ему никогда не было стыдно.
Да и чего стыдиться, если так было всегда, точнее, с тех пор, как он заболел, то есть опять же – всегда.
Он не стал стыдиться и после того, как понял, что влюблен в Ружу. Да и после того, как влюбился в нее, хотя и все то, что было раньше, тоже было влюбленностью.
Его нескладное, несуразное тело, недоразвитое и несовершенное по сравнению со всеми другими известными Давиду телами, было предметом повседневных обязанностей Ружи и в каком-то смысле принадлежало не только ему, но и ей.
Она отнесла мальчика в уборную и помогла, как и всегда, сесть на унитаз, а потом, чтобы ему было удобнее, встала на колени и подсунула под его ноги трехногую скамеечку.
Может быть, подсовывая ее, она вставала на колени и раньше, но он этого никогда не замечал. Сейчас заметил, и ему стало неловко. Он застеснялся.
Неужели не могла сделать этого стоя?
Потом она, как и обычно, вышла за дверь – ждать.
Он старался быть как можно тише. Сегодня она не пела, а жалко, было бы лучше. Но попросить Ружу петь ему показалось неудобным.
Раньше он ни о чем таком не заботился. Или же старался вести себя как можно громче, потому что тогда было смешно, и все выглядело как игра. Но сегодня каждый звук собственной утробы казался ему унизительным. А она именно сегодня рычала и производила самые отвратительные и постыдные звуки. Хохот смерти.
Игры больше не было.
После того как Ружа его подтерла, а потом сразу же подмыла, Давид дождался, когда она уйдет, оставит его одного в инвалидном кресле, и только тогда горько расплакался.
И плакал он не как ребенок, а как взрослый мужчина. Дон Антун Масатович, мириловский приходской священник, никому не говорил о Караджозе и его свите. Ни как и почему потчевал их в приходском доме, ни о чем они разговаривали, ни каковы их намерения, ни сколько они думают здесь пробыть. Ничего из того, что волновало людей, он рассказать не хотел.
Единственное, что он все-таки сообщил своим прихожанам и что их нисколько не заинтересовало, было то, что эти люди – поляки и, соответственно, Караджоз – тоже поляк.
Поскольку о поляках у них не было никакого представления и они не знали о них вообще ничего, – за исключением того, что Польша – это где-то там, в болотах, недалеко от Галиции, где в прошедшую войну погибали и погибали тысячи людей, – эту новость о Караджозе они ни к чему не могли привязать или вставить в одну из своих историй и будущих деревенских легенд. (Только через сорок лет, когда по воле Божьей римским епископом и папой был избран поляк и об этом в вечернем выпуске новостей сообщило загребское телевидение, девяностотрехлетний Бепо Милохнич с ужасом пробормотал, что Караджоз вернулся. Спустя несколько минут, перед самым прогнозом погоды, старик умер. Не сказать, что родня и соседи серьезно отнеслись к его словам, и не сказать, что именно они породили распространившуюся позже историю. Более того, точно не известно, действительно ли старик произнес именно эти слова и упомянул ли он вообще о Караджозе. Может быть, сказал какое-то другое слово, а не то, что почудилось людям. Но для нашего рассказа этот факт совершенно не важен, поэтому он и помещен в скобки, чтобы сам читатель, или, еще до него, корректор, выкинул его из истории, в которой его, в сущности, и не было.)
В тот же день несколько человек спросили у дона Антуна Масатовича, считать ли Караджоза Нечестивым, правда ли, что вместо ступней у него козлиные копыта и боится ли он креста и Божьей Матери? Но тот ничего не ответил. Только улыбался как человек, обладающий неким важным и полезным знанием, которым не следует делиться с окружающими. Он знал, что поступил правильно, когда зачеркнул ту фразу в блокноте с заметками для воскресной проповеди.
День занимался солнечный и чистый.
Ночью снова шел дождь, но сейчас на небе не осталось ни облачка. Все вокруг было мокрым, с крыши Немецкого дома и окружающих деревьев капало. От теплой земли шел пар, словно из нее воспаряли духи. Над ее поверхностью образовывался легкий