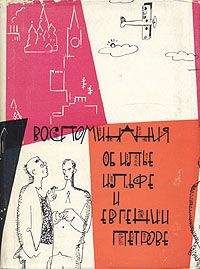Евгению Петровичу тогда оставалось жить всего девять лет, Марии Остен - восемь, Михаилу Кольцову - шесть, Ильфу - четыре года.
Зимой 1936 года я провел две недели в подмосковном доме отдыха "Остафьево". Там я встретился с Ильфом. Илья Арнольдович уже был тяжело, неизлечимо болен, но разговоров о своей болезни не любил и не поддерживал, был, как всегда, спокоен, остроумен и ироничен.
В его "Записных книжках" сохранились короткие, отрывочные записи этого периода, и среди них, между прочим, такая:
"Мы возвращаемся назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто с воротником из гималайской рыси. Он торопится к себе на второй этаж, рисовать сапоги..."
В этих, не совсем понятных для непосвященного читателя строчках, речь идет обо мне. Дело в том, что я работал тогда в "Остафьеве" над большим сборником карикатур "Фашизм - враг народов" и поставил себе, ввиду напряженных издательских сроков, ежедневный "урок" - не менее пяти рисунков. А так как почти в каждой карикатуре антифашистского альбома неизбежно фигурировали штурмовики или эсэсовцы в соответствующем обмундировании, то на протяжении рабочего дня мне приходилось рисовать не менее десяти-пятнадцати пар сапог.
Ильф был в курсе дела и каждое утро за завтраком не забывал вежливо спросить:
- Сколько пар сапог выдано вчера на-гора?
После "Остафьева" мне только один раз довелось увидеть Ильфа - на перроне Белорусского вокзала, когда газетчики и писатели пришли встречать приехавшего из Испании специального корреспондента "Правды" Кольцова.
А буквально через несколько дней брат и я пришли в Дом писателя отдать Илье Арнольдовичу последний долг...
Евгения Петрова в последующие годы я встречал довольно редко. В 1940 году он стал редактором журнала, в котором впервые был напечатан "Рассказ о гусаре-схимнике". За два года до этого был репрессирован и погиб Кольцов, и когда я разговаривал с Петровым, в его добрых глазах я читал глубокое, молчаливое сочувствие.
Последний раз я видел Женю незадолго до его гибели. Мы столкнулись в коридоре гостиницы "Москва", которая в первые годы Великой Отечественной войны перестала быть гостиницей в обычном понимании этого слова и превратилась в огромное общежитие, где месяцами жили писатели, журналисты, художники, общественные деятели, оставившие свои опустевшие, нетопленные квартиры. На одном этаже с Петровым жил и я. Евгений Петрович зазвал меня к себе в номер. Здесь он извинился, лег на диван и прикрылся пледом.
- Что с вами, Женя? - спросил я. - Вы нездоровы?
- Ломит немного, - неохотно ответил он. - А послезавтра вылетать в Севастополь.
- Севастополь... Севастополь... А помните, Женя, голубой крейсер, старпома...
- Всем с левого борта! - засмеялся Петров. Через полчаса я встал и начал прощаться.
- Ну, Женя, - сказал я, - счастливо! И мы обменялись крепким рукопожатием.
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
ИЗ КНИГИ 1
С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод "Двенадцати стульев". С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.
1 Глава из четвертой части книги "Люди, годы, жизнь".
У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.
Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: "Ну, что нового в газетах о наших миллионерах?" И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: "Начало есть - бедный человек выигрывает пять миллионов"...
Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в "Куполь". Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария в поисках, "гагов" участвовали Савич, художник Альтман, Польский архитектор Сеньор и я.
Кинодрама погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл; узнал двух чудесных людей.
В воспоминаниях сливаются два имени: был "Ильфпетров". А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и как многие писатели, смешившие миллионы людей - от Гоголя до Зощенко, - был скорее печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства, Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек; ему хотелось, чтобы люди жили лучше, он подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: "Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают..." За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он говорил: "Немцам осточертела война"...
Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу, они как бы дополняли один другого - едкая Сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.
Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее - во время войны.
Я думаю о судьбе советских сатириков - Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и "прорабатывали" их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку, написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу, - умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: те нравы, которые мы именуем "культом личности", мало благоприятствовали сатире.
Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.
Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: "Репертуар исчерпан" или: "Ягода сходит". А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на путь. Он умер в чине Чехонте, а он как-то мне сказал: "Вот хорошо бы написать рассказ вроде "Крыжовника" или "Душечки"... Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело - его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).
- Как теперь нам писать? - сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. - "Великие комбинаторы" изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес - это "уродливое явление". А напишешь рассказ сразу загалдят: "Обобщаете, нетипическое явление, клевета..."
Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел:
- А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибался и что в Сибири растут пальмы...
Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород "в древнегреческом стиле со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции: одну - в Афины, другую - в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть". Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились: "Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона". В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме "Сфинкс" и в ужасе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто не собирается строить киногород...
Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: "Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло".
Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: "На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) - выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно".
Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: "Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мнений канцелярских сотрудников: "А на третье был компот из вишен". "Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась два часа. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились: "Где вы его купили? Сколько он стоит?" "Зеленый с золотом, карандаш назывался "Копир-учет". "Ух, как скучно!" "Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников". "Край непуганых идиотов..." "Это были гордые дети маленьких ответственных работников". "Бога нет! - А сыр есть? - грустно спросил учитель".