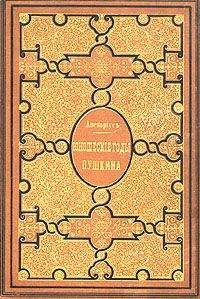С этих пор чуть только, бывало, Мясоедов разинет рот, чтобы высказать что-нибудь, — его перебивали словами:
А Илличевский, успевший, как уже сказано, заявить себя искусным рисовальщиком, в ближайшем же номере нового лицейского журнала "Лицейский мудрец" нарисовал карикатуру, изображавшую Мясоедова в дурацком колпаке с ослиными ушами, и с следующей подписью внизу:
О чем ни сочинит, бывало,
Марушкин, борзый стихотвор,
То верь, что не солжешь нимало,
Когда заране скажешь: вздор!
Марушкин об ослах вдруг басню сочиняет,
И басня хоть куда! Но странен ли успех?
Свой своего всех лучше знает,
И следственно опишет лучше всех.
Марушкин-Мясожоров, однако, вкусив раз от древа поэзии, не думал еще сложить оружие и знай продолжал кропать басню за басней. Когда же и эти не нашли себе хвалителей и издатели "Лицейского мудреца" наотрез отказали ему принять их в свой журнал, непризнанный поэт тщательно перебелил свои писания в особую, нарядную тетрадь, которую озаглавил:
ХОТЬ ХУДО, НО СВОЕ
Илличевский и тут не дал ему покоя, и в следующем номере «Мудреца» появилась такая эпиграмма:
Ты выбрал к басенкам заглавие простое:
Хоть худо, но свое.
И этак хорошо, но этак лучше вдвое:
Что худо — то твое,
Что хорошо — чужое.
И прочие лицейские сочинители пустились теперь взапуски с Илличевским строчить эпиграммы; но только Пушкин один мог соперничать с ним; стихотворные шутки его были нередко еще более тонки и колки, чем у Илличевского.
К сожалению, дело не ограничилось эпиграммами. На мотив облетевшей в 1812 году всю Россию патриотической песни Жуковского "Певец во стане русских воинов" лицеисты стали распевать новую, собственного сочинения "национальную песню", в которую, само собой разумеется, угодил опять-таки профессор-немец Гауеншильд. Он вошел однажды в класс вместе с директором в ту самую минуту, когда шалуны под управлением Гурьева распевали хором сатирические куплеты, сочиненные ими на его счет. Гурьев, стоя на кафедре, махал в такт руками, как дирижерской палочкой.
— Вы сами теперь изволите слышать, ваше превосходительство! Что прикажете делать с этими сорванцами? — обратился Гауеншильд по-немецки к директору, трясясь от негодования, как в лихорадке.
Малиновский окинул школьников печальным взглядом и объявил затем:
— Как мне ни прискорбно, господа, воспретить вам заниматься поэзией, тем более что между вами, как уверяет Николай Федорыч, есть недюжинные таланты (взоры его скользнули при этом по Илличевскому и Пушкину), но я вижу, что ничего иного не остается. Впрочем, окончательное решение вопроса будет зависеть от конференции.
— И только-то, ваше превосходительство? — возразил Гауеншильд.
— Безусловное воспрещение писать стихи и издавать журналы, поверьте мне, господин профессор, будет им чувствительнее лишения всяких сладких блюд. А теперь вы, Гурьев, пожалуйте-ка сюда на расправу.
Спрятавшийся за кафедрой Гурьев вообразил было, что про него забыли, и с самым смиренным видом выполз теперь на свет Божий.
— Сколько раз я вас предупреждал, Гурьев, но вас, видно, как кривое дерево, не выпрямишь.
— Да что же я такое сделал, Василий Федорыч? Помилуйте! — плаксиво отозвался Гурьев.
— Как что вы сделали? Вы стояли на кафедре и в такт размахивали руками!
— Размахивал, потому что упрашивал товарищей не петь этих дерзких куплетов…
— Вот что я вам скажу, Гурьев: шалить в вашем возрасте извинительно; но лицемерить, лгать старшим в лицо и сваливать еще вину свою на других — бесстыдно и достойно примерного наказания. Вы в настоящем случае явно были первым зачинщиком, и поступок ваш также будет передан на суд конференции.
Такая непривычная со стороны добряка Малиновского строгость совсем ошеломила Гурьева; он вдруг разрыдался и готов был обнять ноги директора, чтобы только вымолить прощение.
— Мы все ведь виноваты, Василий Федорыч! — вступился тут Пушкин. — Простите и его на этот раз.
— Простите его! — подхватили прочие.
— Хорошо, так и быть, в последний раз, — смягчился, по обыкновению, Малиновский. — Но повторяю вам, Гурьев: берегитесь вперед!
Конференция при обсуждении предложения директора — воспретить впредь лицеистам писать стихи и издавать журналы — почти единогласно утвердила его предложение. Двое только — Кошанский и Куницын — старались выгородить поэтов, но в конце концов остались при "особом мнении". Им же лицеисты были обязаны, что к осени 1813 года строгая мера была негласно отменена. Тогда же был снят запрет и со спектаклей. В первом из них, устроенном в день лицейской годовщины, 19 октября 1813 года, приняли участие как Дельвиг, так и Пушкин.
Глава XX
Литературные розы и тернии
Марает он единым духом
Лист,
Внимает он привычным ухом
Свист…
"История стихотворца"
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.
"Евгений Онегин"
А что же делала в течение запретного времени пушкинская Муза?
Она поневоле смирилась, но не бездействовала. С наступлением весны 1813 года прежние прогулки двух друзей-поэтов в тенистых аллеях царскосельского парка возобновились, а с ними и нескончаемые беседы о поэзии древней и современной. Одно время к ним примкнул было, или, вернее, навязался, еще и третий стихотворец, Кюхельбекер. Восторженный почитатель романтизма, процветавшего тогда в Германии, он успел уломать Дельвига сообща с ним перечесть идиллии Геснера, баллады, оды и элегии Гёте. Но когда они приступили к «Мессиаде» Клопштока и имели неосторожность пригласить к участию в чтении и Пушкина, искусственная напыщенность творца «Мессиады» дала Пушкину такой богатый материал для колких замечаний, что Дельвиг сам заразился его насмешливостью, а Кюхельбекер с негодованием махнул на обоих рукой.
Пушкину, впрочем, было теперь вообще не до чужих писаний. От забившей его раз писательской лихорадки у него, как говорится, руки зудели: ему непременно надо было сочинять во что бы то ни стало, но только не какие-нибудь эпиграммы или бывшие тогда в моде "послания".
— Я чувствую в себе какую-то сверхъестественную силу! — сознавался он в минуты откровения Дельвигу. — Знаешь, вот как этот древний богатырь русский Святогор, который хотел укрепить в небе кольцо на железной цепи, чтобы за цепь ту перевернуть всю землю, — так точно и мне хотелось бы создать что-нибудь такое, чтобы весь мир ахнул! Трехтомный роман, что ли, пятиактную ли драму… Вот что, брат барон: напишем-ка что-нибудь в компании.
— Что ты, Господь с тобой! — испугался Дельвиг. — И без меня найдешь себе немало компаньонов. Вот Яковлев, например, говорил мне как-то, что смерть хотелось бы сочинять вместе с тобой, но что не знает, как к тебе подступиться, потому что ты слишком горд…
— С чего он взял? Так ты, Тося, напрямик отказываешься?
— Да, уж избавь меня, душа моя, а Яковлеву ты доставишь большое удовольствие.
— Ну, нечего делать, попытаюсь хоть с ним.
Не прошло и месяца, как по рукам лицеистов стала ходить новая комедия "Так водится в свете", сочиненная компанией "Пушкин и Яковлев", а осенью, в один из царских праздников, она уже была разыграна на лицейской сцене.
Между тем Пушкин готовил товарищам новый сюрприз. С каким-то лихорадочным усердием перелистывал он по целым часам имевшиеся в лицейской библиотеке нравоописательные и философские сочинения и нередко поражал приятелей то любопытными подробностями о быте кочующих народов, то кудреватыми учеными фразами.
— Откуда это у тебя? — недоумевали те.
Он только таинственно улыбался и отвечал коротко:
— Когда-нибудь да узнаете.
— Пушкин что-то грандиозное затевает, — шепотом передавали друг другу лицеисты.
"Грандиозное" действительно назревало, и доктор Пешель первый удостоился проникнуть в тайну. Пушкин встретился с Пешелем с глазу на глаз в коридоре и обратился к нему с убедительной просьбой отослать его в лазарет. Доктор пощупал у него пульс, потом взял его голову в руки и повернул лицом к свету.
— Гм… Пульс как будто лихорадочный, глаза тоже… Покажите-ка язык.
Мальчик едва не фыркнул ему в лицо.
— Да нет же, доктор…
— Покажите язык, говорю я вам!
Пушкин на вершок высунул язык: весь он был точно вымазан черной краской или сажей. От такой неожиданности доктор даже отскочил назад.
— Что это вы ели? — спросил он. — Чернику, что ли?
— Ах нет, это от чернил! — расхохотался Пушкин.
— Экий ведь школьник! Чернила пить далеко не безвредно.
— Ну вот я и отравился ими. Положите меня в лазарет.