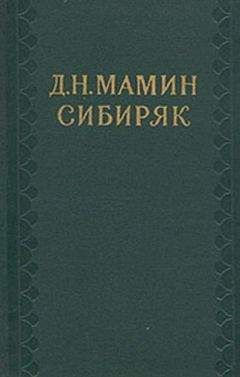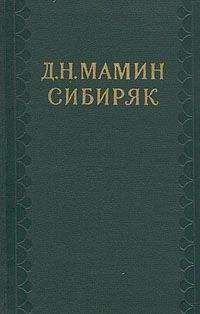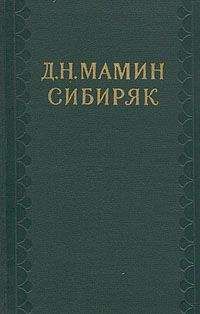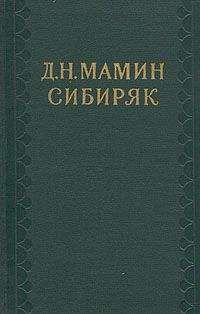— Чего же тут мудреного? Волокли через болота, как две редьки. Известно: бабы. У ней, у бабы, уж такой закон — всего боится… Ежели бы она не боялась, так с ней и сладу бы не было.
«Шестой номер» на непривычного человека производил самое угнетающее впечатление, впечатление какой-то подавляющей тесноты, обидной уже потому, что на сорок верст кругом не было никакого жилья. Река Полуденка пробиралась между лесистыми, неприветливыми горами какими-то закоулками, и ее течение постоянно преграждалось разными естественными препятствиями — то загородит дорогу обочина горы, то каменный утес, то целая гора. Речная вода преодолевала все эти препятствия и достигала цели обходными путями, конечно, теряя много во времени. «Шестой номер» получил свое существование благодаря горе Чуман, которая точно сознательно загородила дорогу лесистым плечом живой горной воде. По расчету первого золотопромышленника, делавшего здесь заявку, золото именно должно было «подбиться» к этой горе благодаря задержанному течению. Образовался крутой, узкий и длинный лог, напоминавший брешь, сделанную каким-то неприятелем в основном горном массиве. Когда «Старик» в первый раз явился сюда, он не мог не согласиться с этим предположением и купил прииск с казенных торгов. Кто был этот первый предприниматель, где он пропадал сейчас — разорился, умер или разуверился в деле, — оставалось неизвестным, но идея продолжала существовать. «Старик» верил в нее и после целого года тяжелых испытаний и всяческих неудач добился своего. «Шестой номер» оправдал себя, как говорят на промыслах. Долго не дававшееся в руки золото, как заклятый клад, было найдено именно им, «Стариком».
Сейчас «Шестой номер» имел самый оживленный вид благодаря именно этой уверенности в открытой надежной россыпи. Как по щучьему велению выросла и новая контора, и новая казарма на пятьдесят рабочих, и все признаки живой работы, а главное, точно в самом воздухе висело бодрое настроение и уверенность в завтрашнем дне. В «Шестой номер» теперь верили все. Это отражалось на всем, а главным образом на настроении рабочих.
Когда «Старик» ранним утром выходил из своей землянки, его ухо приятно поражал трудовой шум, висевший над весело работавшим прииском. В его душе невольно просыпалось горделивое чувство, что главным виновником всего является именно он и только он один. Теперь «Старик» с особенным удовольствием вспоминал то недавнее время, когда он бедствовал в своей землянке и приходил в отчаяние от преследовавших его неудач. Благодаря этим воспоминаниям ему особенно дорогой делалась вот эта самая землянка, в которой он столько пережил. Парасковья Ивановна никак не могла этого понять, захватив в конторе лучшие комнаты. Да, он будет жить в своей землянке, как живут другие рабочие. Только часть рабочих помещалась в новом корпусе, выстроенном на пятьдесят человек. Это были так называемые «кондрашные», работавшие по годовым контрактам. А большая часть рабочих помещалась по ту сторону Полуденки, в землянках или кое-как слаженных на скорую руку балаганах, прилепившихся к обочине горного увала, как гнезда стрижей. Тут жили старатели, работавшие с золотника намытого золота. По вечерам около этих балаганов так весело курились старательские огоньки и слышались несмолкаемые песни. Без песни русский человек не умеет работать, а отдыхать тем больше.
Собственно прииск, где залегала золотоносная россыпь, делился на две неравных половины. На лучшей половине, где работали кондрашные, были поставлены хозяйские работы, что можно было издали заметить по зимней вскрыше турфов (верхний слой земли, прикрывающий россыпь), по только что устроенному пруду и особенно по большой золотопромывальной машине сибирского типа, которая называется «бутарой». Старатели работали вразброд, и каждый отыскивал счастье в свою голову. Промывка производилась ими на ручных станках, без всяких других приспособлений.
«Старик» с наслаждением обходил все работы, разговаривал с рабочими и чувствовал, что все эти простые люди уважают и любят его, за исключением, может быть, одного Луки, склонного ко всякому предательству по натуре. Верить коварному человеку было нельзя ни в чем, но «Старик» так сжился с ним, что отказать ему не мог.
— Слава богу, все хлеб едим от вас, барин, — повторял Лука, обходя со «Стариком» работы. — На что старателишки, и те мало-мало кормятся, которые ежели с умом…
Лука немилосердно грабил этих старателишек и всячески вымогал из них взятки, особенно, когда дело доходило до отвода новых делянок или приема намытого золота. До «Старика» доходили жалобы на этого старого негодяя, которого следовало давно прогнать, но «Старику» делалось как-то совестно за него же, и он, вместо того, чтобы обругать его по крайней мере, как-то заискивающе говорил:
— Лука, ты бы того, братец… гм…
— Я? Да я, барин… Ах, боже мой! — начинал клясться старый приисковый вор. — Да я для вашего интересу из своей кожи готов вылезти семьдесят семь разов с разом.
В доказательство последней метафоры Лука с ожесточением бросал свою шапку оземь и начинал креститься.
— Да я… Вот не сойти с этого самого места. Можно пряменько сказать: стараюсь, как неумытый пес.
— Все-таки, Лука, ты бы того… вообще, не очень… — еще более смущенно бормотал «Старик», — старатели жалуются…
— Старатели? жалятся? А того они не сказали вам, барин, что они есть первые воры?.. За ними какой глаз-то нужно иметь. Недоглядел, а они сейчас, напримерно, наше родное золото на сторону и потащат… Модель известная… Плачет об них острог, обо всех…
«Старик» всячески старался смягчить суровый режим старого хапуги и вора, но все его меры как-то не имели действия, и Лука имел полное основание смеяться над простоватым барином.
В конторе, где заседал Ефим Иваныч, тоже дело было как будто не совсем чисто, и недельные отчеты сплошь и рядом не сходились, причем Ефим Иваныч имел нахальство оправдываться близорукостью, благодаря которой постоянно смешивал цифры 3 и 5.
— Может быть, ты меня подозреваешь в воровстве? — обижался Ефим Иваныч, в конце концов, переходя в наступление.
— Нет, я этого не говорю, — оправдывался «Старик», проклиная свое желание посмотреть отчет за неделю. — А только, вообще…
— Пожалуйста, не отпирайся! — гремел Ефим Иваныч.
— Да, ей-богу же, я ничего… я так… — Нет, говори прямо!..
«Старику» приходилось извиняться, и он даже краснел, как напроказивший школьник.
— Я, брат, на Английскую набережную кули таскать, — заканчивал Ефим Иваныч, — у меня разговоры короткие. А затем в этом проклятом лесу я окончательно потеряю здоровье…
Заботы о здоровье составляли, кажется, главную задачу всей жизни Ефима Иваныча, и это настроение поддерживалось Парасковьей Ивановной с какой-то ожесточенной энергией. Каждое утро, когда Ефим Иваныч выходил к чаю, она пытливо осматривала его и зловещим тоном говорила:
— Ефим, покажи язык… Мне кажется, что у тебя сегодня нехороший цвет лица. Тебе необходимо принимать железо…
Ефим Иваныч повиновался и даже ложился в постель, когда этого требовала Парасковья Ивановна. Вообще это был неисправимый дармоед, который мог в свое оправдание сказать только то, что Егор Егорыч еще больший дармоед, дармоед озлобленный, считающий себя вечно обиженным кем-нибудь. Судьба преследовала Егора Егорыча с замечательным постоянством и загнала его в конце концов в такую трущобу, как «Шестой номер». Пред всеми остальными он гордился тем, что был в Петербурге и насмотрелся там всяческих чудес, а главное, видел, как живут настоящие люди. Ефим Иваныч с завистью слушал его рассказы, из которых почему-то усвоил только одну фразу о таскании каких-то кулей на Английской набережной.
Через три дня Парасковья Ивановна за утренним чаем с таинственным видом проговорила: — Он выехал…
Егор Егорыч и Ефим Иваныч, как по команде, посмотрели на «Старика», который молча пил чай один стакан за другим. Это была одна из его дурных привычек, возмущавшая Парасковью Ивановну до глубины души. «Старик» имел обыкновение выпивать целых пять стаканов чаю, тогда как Егор Егорыч пил всего два. Егор Егорыч сейчас служил для Парасковьи Ивановны мерой всех вещей, той нормой, уклонение от которой в ту или другую сторону приводило ее в негодование.
В контору «Старик» приходил только пить чай и обедать, что его сейчас очень смущало. Он предпочел бы тысячу раз питаться у себя в землянке, но это было бы некоторой демонстрацией. Приходилось покоряться установившемуся режиму, хотя это и составляло для него настоящую пытку. Когда он приходил в контору, все умолкали и таинственно переглядывались между собой, точно в комнату вошел шпион. Положение получалось невыносимое, тем более, что присутствовавшие начинали обмениваться какимм-то шифрованными фразами, о смысле которых он мог только догадываться. Особенно донимала «Старика» Парасковья Ивановна, принимавшая вид неумолимой судьбы. Если бы они все знали, как мучился и страдал «Старик» и вместе как было ему совестно вот за них же, за их несправедливое отношение к нему. Он даже краснел.