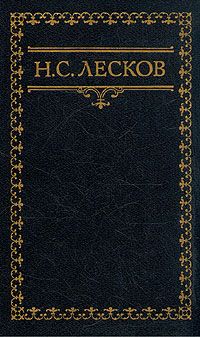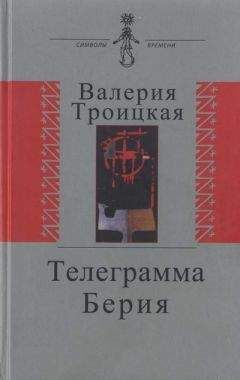В рассказе об упомянутом сейчас событии я и познакомился впервые с импровизаторством этого необыкновенного человека, которое потом мне доставляло много интересных минут в Киеве.
Многое множество из его грандиозных рассказов я позабыл, но кое-что помню, хотя теперь, к сожалению, никак не могу рассортировать, что слышал
ГЛАВА ШЕСТАЯ
По словам Кесаря Степановича, которым я, впрочем, не смею никого обязывать верить без критики, он встретил государя где-то на почтовой станции.
- Сейчас же, - говорит, - я упросил графа Орлова дозволить мне стоять с детьми на крылечке, и стал. Ребят построил в шеренгу мал мала меньше, а сам стал на конце в правом фланге.
Государь как вышел из коляски на крыльцо, заметил мой взвод и говорит:
- Это что за ребята?
А я ему отвечаю:
- Это мои дети, а твои будущие слуги, государь.
Тогда Николай Павлович взглянул, будто, на Берлинского и сейчас же его узнал.
- А-а! - говорит, - Берлинский! - Это ты, братец?
- Точно так, - говорю, - ваше величество, это я.
- Очень рад тебя видеть. Как поживаешь?
- Благословляю провидение, что имею счастие видеть ваше величество, а поживание моё очень плохо, если не будет ко мне твоей милости.
Государь спросил:
- Отчего тебе плохо? Ты мне хорошо служил.
- Овдовел, - отвечал Берлинский, - и вот детей у меня целая куча; прикажи, государь, их вскормить и выучить, а то мне нечем, я беден, в чужом доме живу, и из того Бибиков выгоняет.
Государь, говорит, сверкнул глазами и крикнул:
- Орлов! определить всех детей Берлинского на мой счёт. Я его знаю: он храбрый офицер и честный.
А потом, будто, опять оборотился к Кесарю Степановичу и добавил:
- За что тебя Бибиков выгоняет?
- Дом, - говорю, - где я живу, под крепость разломать хочет.
Государь, будто, ответил:
- Вздор; дом, где живёт такой мой слуга, как ты, должен быть сохранён в крепости, а не разломан. Я тебя хорошо знаю, и у меня, кроме тебя и Орлова, нет верных людей. А Бибикову скажи от моего имени, чтобы он тебя ничем не смел беспокоить. Если же он тебя не послушается, то напиши мне страховое письмо, - я за тебя заступлюсь, потому что я тебя с детства знаю.
Почему государь Николай Павлович мог знать Берлинского "с детства" этого я никогда не мог дознаться; но выходило это у Кесаря Степановича как-то складно и статочно, а притом и имело любопытное продолжение.
Когда государь сам, будто, напомнил о столь давнем знакомстве "с детства", то Берлинский этим сейчас же воспользовался и сказал:
- Да, ваше величество, это справедливо: вместе с вами играли, а с тех пор какая разница: вы вот какую отменную карьеру изволили совершить, что теперь всем миром повелеваете и все вас трепещат, а я во всём нуждаюсь.
А государь ему на это, будто, ответил:
- Всякому, братец, своё назначение: мой перелет соколиный, а ты воробей
Берлинский будто бы ходил во дворец, и результатом этого был тот паёк или "прибавок" к пенсии, которым "печерский Кесарь" всех соседей обрадовал и сам очень гордился. Однако и с прибавкою Берлинский часто не мог покрывать многих, самых вопиющих нужд своей крайне скромной жизни на Печерске. Но так как все знали, что он "имеет пенсию с прибавком", то "Кесарь" не только никогда не жаловался на свои недостатки, а, напротив, скрывал их с большою трогательностию.
Порою, сказывали, дело доходило до того, что у него не бывало зимою дров и он буквально стыл в своей холодной квартире, но уверял, что это он "так любит для свежести головы".
Цифры своей пенсии Берлинский как-то ни за что не объявлял, а говорил, что получает "много", но может получать и ещё больше.
- Стоит мне написать страховое письмо государю, - говорил он, - и государь сейчас же прикажет давать мне, сколько я захочу, но я не прошу более того, что пожаловано, потому что у государя другие серьёзные надобности есть.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Если верить сказаниям, то государь Николай Павлович, будто, очень грустил по разлуке с Берлинским и даже неутешно жалел, что не может оставить его при себе в Петербурге. Но, по рассказам судя, пребывание Берлинского в столице и действительно было совершенно неудобно: этому мешала слишком большая и страстная привязанность, которую питали к печерскому Кесарю "все солдаты".
Они так его любили, что ему нигде, будто, нельзя было показаться: как солдаты его увидят, сейчас перестают слушать команду и бегут за ним и кричат:
- Пусть нас ведёт отец наш полковник Берлинский, - мы с ним и Константинополь возьмём, и самого победоносного полководца Вылезария на царский смотр в цепях приведём.
Доходило это, по рассказам, до таких ужасных беспорядков, что несколько человек за это были даже, будто, расстреляны, как нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотелось в Петербурге оставаться, да и граф Чернышёв прямо, будто, сказал государю:
- Как вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинский в Петербурге не живет, или надо отсюда все войска вывесть.
Государь, будто, призвал Кесаря Степановича и сказал:
- Так и так, братец, мне с тобою очень жаль расстаться, но ты сам видишь, что в таком случае можно сделать. Я тобою очень дорожу, но без войск столицу тоже оставить нельзя, а потому тебе жить здесь невозможно. Ступай в Киев и сиди там до военных обстоятельств. В то время я про тебя непременно вспомню и пошлю за тобой.
А "лысый Чернышёв" так его торопил выездом, что только несколько дней дозволил ему пробыть в Петербурге, но и тут не обошлось без больших затруднений, имевших притом роковые последствия.
Это, по рассказам, было, будто, именно в тот год, когда в Петербурге, на Адмиралтейской площади, сгорел с народом известный балаган Лемана.
Балаган сгорел с народом, стало быть, во время представления, но, по вине самого импровизатора или благовестников его славы, на сей раз выходило что-то немножко нескладно: дело, будто, происходило ночью.
Берлинский, будто, тогда стоял на квартире в Гороховой улице, у одной немочки, и дожидался бритвенного прибора, который заказал по своему рисунку одному англичанину. У них в родстве было много лиц, отличавшихся необыкновенным умом и изобретательностью, и один племянник Берлинского, будто, такие бритвы выдумал, что они могли брить превосходно, а обрезаться ими никак нельзя.
Англичанин взялся эти бритвы исполнить, да не хорошо по рисунку сделал и опять стал переделывать. А лысый граф Чернышёв, которому неприятно было, что Берлинский всё ещё в Петербурге живёт, ничего этого в расчёт взять не хотел. Он уже несколько раз присылал дежурного офицера узнать, скоро ли он выедет.
Берлинский, разумеется, дежурного не боялся и отвечал: "Пусть ваш лысый граф не беспокоится и пусть, если умеет, сам Вылезария в плен берёт, а я только моего особенного прибора дожидаюсь, и как англичанин мне прибор сделает, так я сейчас же выеду и буду, где государю угодно, век доживать да печерских чудотворцев за него молить, чтобы ему ничего неприятного не было. А пока мои бритвы не готовы, я не поеду. Так лысому от меня и скажите".
Чернышёв не смел его насильно выслать, но опять прислал дежурного сказать, чтобы Берлинский днём не мог на улице показываться, чтобы солдат не будоражить, а выходил бы для прогулки на свежем воздухе только после зари, когда из пушки выпалят и всех солдат в казармах запрут.
Берлинский отвечал:
- Я службу так уважаю, что и лысому повинуюсь.
После этого он, будто, жил ещё в Петербурге несколько дней, выходя подышать воздухом только ночью, когда войска были в казармах, и ни один солдат не мог его увидеть и за ним бегать. Всё шло прекрасно, но тут вдруг неожиданно и подвернулся роковой случай, после которого дальнейшее пребывание Кесаря в столице сделалось уже решительно невозможным.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Идёт один раз Кесарь Степанович, закрыв лицо шинелью, от Красного моста к Адмиралтейству, как вдруг видит впереди себя на Адмиралтейской площади "огненное пламя". Берлинский подумал: не Зимний ли дворец это горит и не угрожает ли государю какая опасность... И тут, по весьма понятному чувству, забыв всё на свете, Берлинский бросился к пожару.
Прибегает он и видит, что до дворца, слава богу, далеко, а горит Леманов балаган, и внутри его страшный вопль, а снаружи никого нет. Не было, будто, ни пожарных, ни полиции и ни одного человека. Словом, снаружи пустота, а внутри стоны и гибель, и только от дворца кто-то один, видный, рослый человек, бежит и с одышкою спотыкается.
Берлинский воззрился в бегущего и узнал, что это не кто иной, как сам государь Николай Павлович.
Скрываться было некогда, и Кесарь Степанович стал ему во фронт как следует.
Государь ему, будто, закричал:
- Ах, Берлинский! тебя-то мне и надобно. Полно вытягиваться, видишь, никого нет, беги за пожарными.
А Кесарь Степанович, будто, ответил:
- Пожарные тут, ваше императорское величество, никуда не годятся, а дозвольте скорее призвать артиллерию.