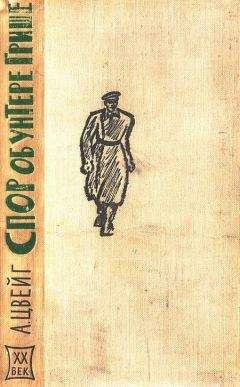Актриса из третьего долго не отпускала своего друга. Она предчувствовала, что скоро, очень скоро умрет, и кротко улыбалась, закрывая глаза.
Две старухи из первого этажа до глубокой ночи бродили по комнатам и пугались друг друга.
Дети во втором плакали и не позволяли гасить лампу.
Утром сын консьержки разнес по квартирам приглашение на похороны. Огромный лист с черной каймой. Он лег на подушку старика с астмой, на кружевной столик актрисы, на комод двух старух, на чайную скатерть во втором этаже, и всюду задрожали над ним ресницы и остановились глаза.
Консьержка, мадам Витру, в первый раз увидела имя своего мужа торжественно напечатанным, на почетном месте. Первый раз совершил он общепринятый буржуазный, вполне почтенный поступок, который возбудил у всех интерес и даже благоговение. О нем говорят, о нем спрашивают, о нем думают во всех пяти этажах, и в доме рядом, и в доме напротив, и в булочной, и на углу.
Он – мосье Витру. Его женой сейчас быть почтенно. В первый раз она его, а не он ее. Она его вдова, а не он «муж консьержки». И кюре, с которым она говорила об отпевании, утешая, сказал: «не плачьте, но думайте о том, что скоро с ним встретитесь». Этими словами и кюре признавал как бы заслугу мосье Витру, как бы высшее его в сравнении с нею положение.
И те нечестивые думы, которые раздражали ее, когда она поняла, что муж умирает, – она отогнала прочь. Думы о том, что умирает он слишком поздно, когда она уже стара, что, будь это лет пятнадцать тому назад, когда вдовец-водопроводчик так сильно заинтересовался канализацией в их доме, что по два раза в день приходил проверять краны, – тогда было бы дело другое. У водопроводчика теперь собственная мастерская в Руане…
Но после смерти Витру, когда жизнь приняла такой торжественный оборот, она забыла о водопроводчике.
Запах хлора и формалина углублялся, расширялся, гудел глубоким аккордом.
Теперь страшные слова «мосье Витру умер» жили, и вся обычная жизнь перед ними умирала. У слов этих был теперь звук, шестисложный, понижающийся в тоне напев. У них был цвет – широкая черная полоса на белом и был запах – этот страшный, тягучий и сладкий дух. Жильцы дома номер сорок три не хотели есть, не могли спать, читать, разговаривать. Они умирали от звука, от цвета, от запаха «мосье Витру умер».
Похороны вышли торжественные. Жильцы купили в складчину цветов – два огромных венка из иммортелей, намекавших на земное бессмертие, на незабвенность старого консьержа. А на почетном месте – в головах гроба – ядовито-развратные и жадные, дрожали орхидеи, существа из другого мира, пожаловавшие сюда, в среду мещанских розовых гвоздик, как очаровательная дама-патронесса спускается в подвал, чтобы навестить больную прачку.
Вдова Витру стояла впереди всех, но полуобернувшись к гробу, через траурную вуаль видела, как торжественно и печально слушает толпа молящихся «De Profundis».
И многие плачут.
У старика из четвертого этажа голова тряслась отрицательно, точно он не одобрял этой затеи старого консьержа. Ему хотелось спать, но он приплелся, потому что ему казалось, что он этим как-то откупится от того противного и страшного, что вошло в дом.
Рядом горько плакала его дочь, думая о том, что уже никогда не выйдет замуж, что старик загрыз ее, а сам живет в полное свое удовольствие, заставляет в шесть часов утра варить кофе и выдумывает астму.
Плакала напудренная сиреневой пудрой актриса из третьего этажа. Она представляла себе, что она сама лежит в гробу, и как бы дублировала консьержа в его великолепной центральной роли.
– Цветы и слезы, – шептала она. – Цветы и слезы, а нам, покойникам, уже ничего не нужно.
Всплакнули старушонки из первого этажа. Они вообще бегали на все похороны, потому что это было для них самое интересное бытовое явление, так сказать – к вопросу дня.
Вдова Витру видела всю эту печаль и благоговение перед ее мужем, слышала никому не понятные, таинственные и мудрые латинские слова, которые говорил кюре ему, мосье Витру. И когда церковный швейцар, дирижируя парадом, стукнул булавой и стал медленно, очередью, пропускать присутствующих для выражения соболезнования, и десятки рук протянулись к ней и к ее коренастым сыновьям Пьеру и Жюлю, чтобы пожать их руки в черных фильдекосовых перчатках, новых и скрипучих, – она вдруг заплакала, громко, искренно и горько.
Она плакала о своем муже, величественном и гордом, увенчанном бессмертными цветами, о «мосье Витру», перед которым все так благоговейно склоняются и благодаря которому так почтительно жмут ее фильдекосовую руку. Она плакала о мосье Витру, гордилась им и любила его.
И когда после похорон набившиеся в ее тесную квартирку родственники отдыхали и закусывали со вздохами, но и с аппетитом – что, мол, поделаешь, он ушел в лучший мир, а мы должны все-таки питаться, чтобы подольше продержаться в этом, худшем… – тогда вдова Витру, наливая кофе, сказала:
– Мой бедный Андре часто говаривал: «кофе надо пить очень горячий и с коньяком».
Изречение было не Бог весть какой мудрости, но произнесла она его тем тоном сдержанного пророческого пафоса, каким повторяют исторические слова великих людей.
И слушатели так и приняли его. Они многозначительно помолчали и глубоко вздохнули. И кому-то недослышавшему повторили с благоговением.
Вечером пришел из деревни синеглазый Антонио Франческо – они на Корсике все либо Антонио, либо Франческо, а этот оба сразу – и сказал, что охоту нам наладил.
Кроме меня и Дора, пойдут еще двое охотников. Кабан выслежен. Сбор в деревне на следующую ночь, в два часа. Ослы и собаки приготовлены, провизии брать на сутки.
– Хорошо, – сказал Дор. – Достаньте завтра ружья. В два часа мы придем.
И только! Точно его на блины приглашали. Нужно же было расспросить, в чем идти, далеко ли ехать, спокойные ли ослы, свирепый ли кабан, тяжелое ли ружье.
Ведь это же, действительно, не пустяк, такая история!
Сама я ни о чем спросить не решалась, потому что так как-то вышло, будто я и есть самый заправский охотник. Я всю эту кашу и заварила, а Дор только не протестовал.
– Вы ведь любите охоту? – спрашивала я.
– Когда-то был страстным охотником, – отвечал он нехотя. – Потом бросил.
– Почему?
– Так… Заяц на меня посмотрел. Подстреленный. С тех пор я бросил.
– А как же завтра?
– Завтра?.. Ну, конечно, если кабан на меня выйдет – уложу его. Иначе что же бы это за охота была.
– Вполне вас понимаю, – отвечала я, мрачно сдвигая брови. – Я тоже уложу.
На душе у меня было скверно.
Что касается провизии – это дело было для меня вполне ясно и даже приятно. Встать к двум часам ночи было уже хуже. Все остальное – сплошной мрак.
Есть нечто, в чем ни за что не признаюсь: боюсь лезть на осла. Как представлю себе, что он теплый и шевелится, – ведь ерунда это, а страшно. Если бы он еще не двигался, а ведь он зашевелит лопатками, а на лопатках я.
И еще второй ужас – стрельба. Стреляла я только один раз в жизни, и вышло это очень странно. На foire de Paris[3] зашла в тир. Стреляли там солдаты, человек семь, и прескверно – все мимо.
Вдруг хозяйка с любезной улыбкой протянула ружье мне. Я машинально взяла, приложила не к тому плечу, к какому полагается, закрыла не тот глаз, какой нужно, и под громкое ржанье солдат выстрелила. И произошло нечто совершенно неожиданное: фигурка, в которую я целила, вдруг затрещала и завертелась, точно кто-то попал в нее. Кто? Я растерянно оглянулась.
– Mais c'est vous, madame![4] – выпучила на меня глаза хозяйка и снова сует мне ружье.
Восторгу солдат не было предела. Они хлопали себя по бедрам. Один даже присел и завертелся волчком.
Я растерянная, испуганная, схватила ружье. Опять также по-идиотски не тем боком, не тем глазом.
Бах! Бах! Бах! Из пяти раз попала четыре.
Солдаты притихли и в благоговейном молчании пропустили меня к выходу.
Как все это вышло – сама не понимаю. И что это значит? Значит ли, что я умею стрелять?
Но рассказывать об этой истории было бы неосторожно.
Дор может сказать:
– Ах, так вот вы какой охотник! Нет, уж вы лучше посидите дома, с вами еще в беду попадешь.
Лучше помалкивать.
Но вот как одеться? Понятия не имею.
Спросила хитро:
– А вы в чем пойдете?
Как будто о себе-то уже все давно знаю, а только, мол, в нем не уверена.
– Да хотя бы в этом самом костюме.
Удивительно! Белые брюки, белые башмаки, синий пиджак – пляж Ниццы и Биарицца. Странно.
Тут уж я рискнула:
– А мне, по-вашему, что надеть? Я ведь не знаю условий корсиканской охоты.
(Вот как тонко. Только, мол, «корсиканской» не знаю. Молодчина я!)
– Да надевайте что не жалко.