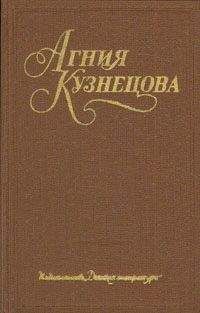Он пронзительно свистнул и с непостижимой расторопностью кинулся в толпу. Сейчас же оттуда выскочили два карманника, - помчались по селедочным бочкам, через кучи колес, ящиков и лаптей. Гусев, казалось, появлялся сразу в нескольких местах, будто три, четыре, пять Гусевых выскакивали из-за тюков и бочек.
На румяных лицах Лимма и Педоти расплывались удовлетворенные улыбки.
- Оказывается, они умеют охранять собственность, мистер Педоти.
- Да, когда хотят, мистер Лимм.
Грузчики, привалившись к перилам, говорили: - Проворный, дьявол.
- Не уйти ребятам.
- Засыпались ребята.
Хохотал меднолицый Парфенов, расставив ноги. В толпе ухали, гикали, свистели:
- Сыпь! Крой! Наддай! Вали! Вали!
И вот - все кончилось: Гусев появился с обоими часами: лицо равнодушное, один глаз опять закрыт. Лимм и Педоти захлопали в ладоши:
- Браво! Поздравляем...
- Никаких знаков одобрения, - Гусев одернул кушак.- Работа показательная, - для своих, а также для международных бандитов...
Внезапно что-то с треском обрушилось, покатилось, загрохотало на берегу. Крик. Тишина. Парфенов проговорил:
- Не иначе как ящики с экспортными яйцами.
Из темноты появился капитан. Унылое лицо вытянуто, усы дрожали. Развел руками:
- Необыкновенное происшествие... Граждане, нет ли среди вас доктора?
Гусев, подскочив к нему: - Ящики с экспортными яйцами?
- Да не с яйцами, с таранью... Черт их знает - обрушилось полсотни ящиков прямо на сходни... И уложены были в порядке... Впрочем, не я их укладывал, меня это не касается, я ни при чем...
- Сколько человек задавило?
- Да двух иностранцев, - говорю я вам.
- Мне это не нравится, - сказал Гусев. - До смерти?
- Ну, конечно, - покалечило, шутка ли - ящиком-то... Да - живые... А, впрочем, мое дело вести пароход, за груз отвечаю, а что на берегу...
- Господин капитан, - спросил Лимм, - мы поджидали здесь двух американских джентльменов...
- Ну да же, говорю вам, - одному бок ободрало, другого вбило в песок головой, завалило рыбой, вытаскиваем...
- Это они, мистер Педоти, - сказал Лимм.
- Это Скайльс и Смайльс...
Педоти и Лимм поспешно пошли на берег. За нимикое-кто из любопытствующих пассажиров, москвичи, капитан, Парфенов, Гусев. На конторке появился Ливеровский, - шляпа помята, руки в карманах. Гусев, приостановившись, внимательно оглядывает его. Ливеровский - с кривой усмешкой:
- А еще хотите, чтоб к вам иностранцы ездили...
Возмутительные порядки...
- У вас оторваны с мясом две пуговицы, - заметили?
- А вам, собственно, какое дело? Убирайтесь-ка к чертям собачьим.
- Ладно, встретимся у чертей собачьих. - Гусев ушел.
Ливеровский задрал голову к палубе, где, взявшись за столбик, стояла Эсфирь Ребус.
- Грубо работаете, Ливеровский, - сказала она.
- Плевать, зато - чисто.
- Могу я, наконец, пойти спать?
- Спите как птичка. Скайльс и Смайльс не поедут с этим пароходом...
- Очень хорошо. У Скайльса и Смайльса отобьет охоту иметь дело с этой грязной страной.
Эсфирь Ребус ушла в каюту. Ливеровский, захватив чемоданы, - на пароход. По палубе прогуливались Хопкинсон, в отблескивающих пароходными лампочками черепаховых очках, и профессор Родионов. Остановились, облокотились о перила, глядели, как из конторы вышел пароходный агент и за ним молодая женщина в парусиновом пальто с откинутым капюшоном,- за руку она держала хорошенькую сонную девочку. Рубя ладонью воздух, агент говорил со злостью:
- Гражданка, отвяжитесь от меня, - билетов ни в первом, ни во втором, ни в третьем...
- Что же нам делать?
- Что хотите, то и делайте...
- Мы смертельно устали с моей девочкой, - восемьдесят верст на лошадях...
- Пожалуйста, - это меня не касается.
- Тогда уж - дайте палубные места...
- То - дайте, то - не давайте... Сразу надо решать... Неорганизованные... Нате, - два палубных...
Молодая женщина, не выпуская руки девочки, попробовала захватить чемодан, укладку, корзину с провизией, кукольную кроватку и картонку для шляпы. Но то либо другое падало, - ничего не выходило. Тогда она сунула девочке кукольную кровать и - с досадой:
- Можешь мне помочь, в самом деле. Не видишь - я мучаюсь...
- Не вижу, - сказала заспанная девочка.
- Держи кровать.
- Держу.
Но только мать подхватила кое-какие вещи, - девочка стоя заснула, кроватка упала...
- Мука моя с тобой, Зинаида! Неужели у тебя нет воли, характера преодолеть сон? Возьми же себя в руки.
- Взяла.
- Держи кроватку... Идем, не спи...
И, конечно, - опять шаг - и девочка заснула, кроватка упала. У матери покатилась шляпная картонка, посыпалась провизия из корзиночки. Она села на укладку с подушками и всхлипнула. Зинаида проговорила: - У самой нет характера, а на меня кричишь.
На девочку и на мать глядели с палубы Хопкинсон и Родионов. Когда рассыпались вещи, негр сбежал вниз, широко улыбаясь, сказал:
- Я вам немножко помогу. (И - девочке, присев перед ней:) Не бойтесь, литль беби, я не трубочист. Помуслите пальчик, проведите-ка мне по щеке. Я не пачкаюсь.
Девочка так и сделала, - помуслила палец, провела ему по щеке:
- Нет, не пачкаетесь.
- Теперь ко мне на руки, дарлинг. Алле хоп! - Он поднял Зинаиду, подхватил чемодан и укладку, пошел на пароход. Женщина с остальными вещами, несколько замешкавшись, - за ним. На сходнях стоял профессор Родионов. Глаза - изумленно расширены: - Нина Николаевна...
Она приостановилась, посмотрела на профессора длинным взором. Казалось - ничуть не удивилась встрече.
Подхватила удобнее картонку:
- Вы упорно не хотели меня узнавать, когда стояли там, на палубе, - это понятно... Но не подойти к дочери, она слегка задышала...
- Нина, снова с упреков?
- Какой-то черный человек-и у того нашлось великодушие, взял на руки несчастную девчонку...
- Я не узнал, Нина, даю честное слово, ни тебя, ни Лялю... Не виделись два года. Ты так переменилась... Не к плохому... Ты откуда сейчас?
- Из Иваново-Вознесенска, где служу. Я в отпускх - Театр?
- Да.
- Позволь - донесу твои вещи. Как ты устроилась?
- Никак, - на палубе.
- Нина, возьми же мою каюту.
- Ты один? (Это - с искоркой радости.)
- Нет, со мной Шура... В том-то и дело.
- Спасибо. Мы предпочитаем устроиться на палубе.
Она прошла на пароход. Родионов, раздумчиво глядя под ноги, - вслед за ней. На пристань возвращались пассажиры, бегавшие глядеть, как вытаскивают американцев из-под ящиков с таранью. Капитан, все еще взъерошенный, сердито махал помощнику(на освещенном мостике):
- Павел Иванович, давайте же гудок...
В стороне Гусев говорил Парфенову: - Ящики с воблой сами не летают по воздуху.
- Не летают, - соглашался Парфенов.
- Ящики были сброшены.
- Так.
- Вопрос - кем и зачем?
- Не понимаю. - Широкое лицо Парфенова выражало простодушное удивление. Гусев - ему на ухо: - Преступник едет на пароходе.
- Брось.
- Здесь подготовляется крупное преступление. Их целая шайка.
- Гады ползучие! - Парфенов рассердился, весь стал медный. - Да когда же они нас в покое оставят, проклятые?!
Хрипло, ревущим басом загудел пароход. По сходням мчался запоздалый пассажир. Ему кричали с парохода: "Штаны потеряешь!" Седьмой час утра. В четвертом классе среди наваленных друг на друга сельскохозяйственных машин, ящиков с персидским экспортом, цементных бочек, связок лаптей спят женщины, дети, старые мужики, - узлы, сундучки, пилы, топоры: это сезонные рабочие и хлебные мешочники. Под полом трясутся дизеля. Из люка несет селедочным рассолом.
Хмурый буфетчик уже открыл дверь в буфетную, где на винных полках бутылки лимонада и бутафория, надпись - "папирос нет", и на отечном лице буфетчика (грязная блуза, беременный живот, в волосах - перхоть, в карманчике - чернильный карандаш), - на лице его чудится надпись: "и, вообще, ничего нет и не будет, господа-товарищи"... Он отпускает чай.
Официант, тоже низенький, неопределимого возраста, касимовский татарин, с подносами в руках, ловко перешагивает через ноги, головы, детские грязные ручки с разжатыми во сне кулачками, - уносится наверх.
В двери третьего класса видны сквозные койки в два этажа, - рваные пятки спящих студентов, дамочки - ны свыше надобности оголенные ножки, взлохмаченные седые волосы уездного агронома, бледное лицо ленинградской студентки, тщетно разыскивающей пенсне под подушкой. Двое военных - в широчайших галифе и босиком - едва продрали глаза и уже закусывают.
Кричит грудной и от детонации пронзительно заливается где-то за койками другой ребенок. К умывальнику стоит очередь.
Профессор Родионов проснулся чуть свет от неопределенного чувства, будто накануне сделал какую-то гадость. За двенадцать лет революции он отвык от самоанализа - от занятия праздного, в некоторых случаях и антигосударственного. Два года тому назад он без намека на анализ разошелся с Ниной Николаевной. Жизнь с Шурочкой была сплошным накоплением фактов; он не пытался даже внести в них хотя бы какую-нибудь классификацию.