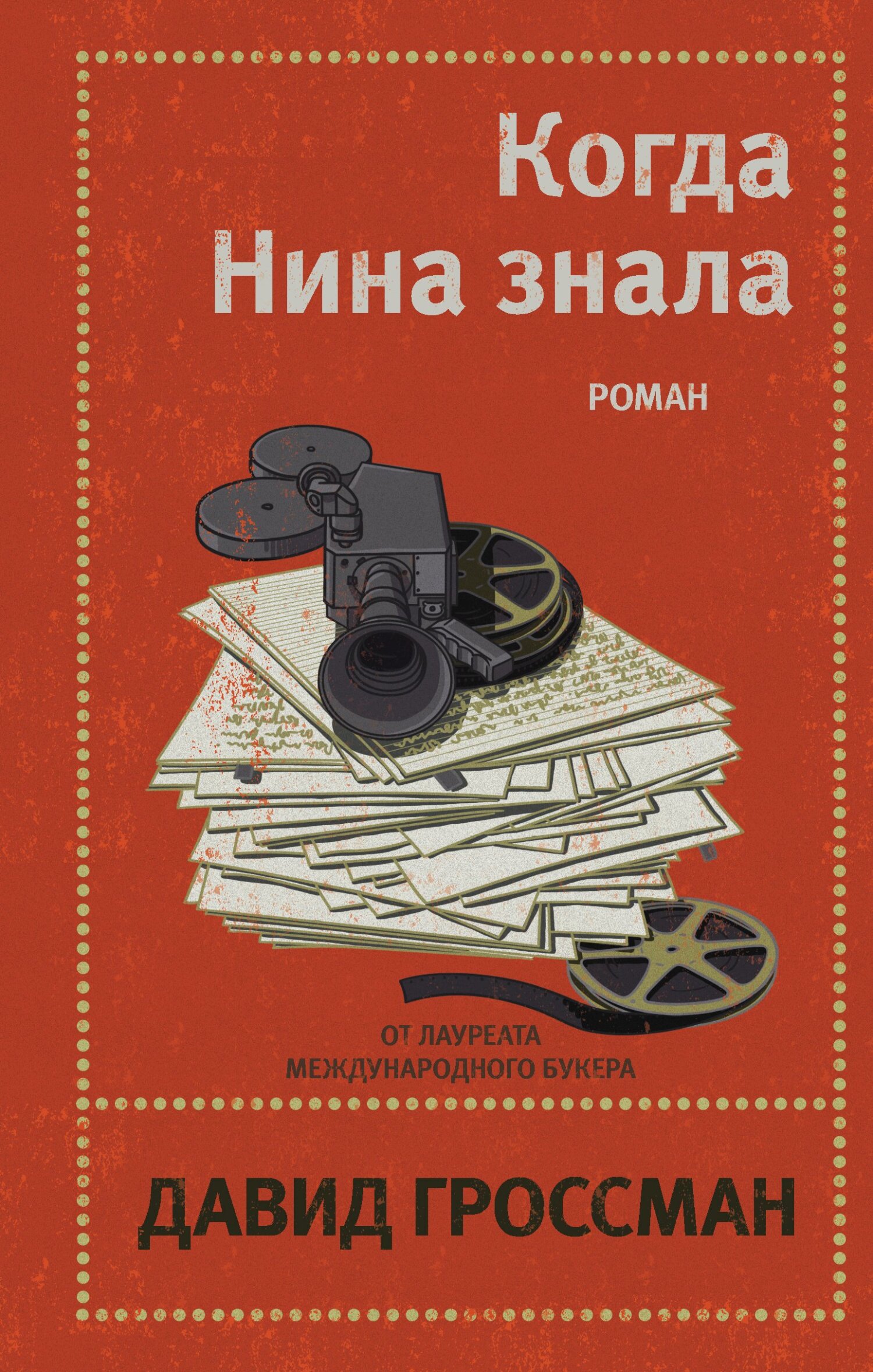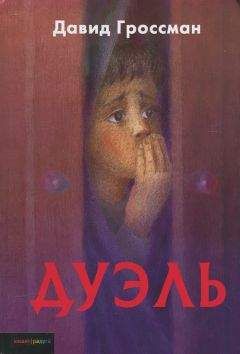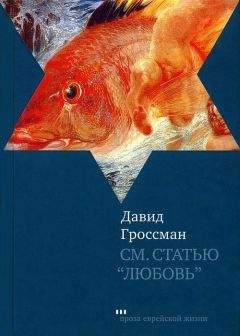красила губы и напяливала сережки. Акцент ее был тяжелым, иврит странным, да и сегодня оно все то же, никто другой не говорит как она, и даже голос ее звучал для уха как-то галутно [2]. Как-то раз, когда они выходили из столовой, один старинный друг из группы югославов положил ей на плечо руку и сказал: «Она стоящая женщина, Тувия. Знай, что по ней такое прокатилось, трудно поверить, и не все еще можно рассказать».
Тувия пригласил ее к себе домой, для знакомства. Чтобы сбавить неловкость этой встречи, Вера привела с собой подругу, свою землячку из Хорватии, страстную любительницу фотографии. Обе сидели молча, скрестив ноги. В неудобных креслах, изготовленных из металлических стержней, оплетенных тонкими нейлоновыми шнурами, которые впиваются в попу.
Им потребовалась самодисциплина монахов, идущих впереди колонны, чтобы не расхохотаться, когда Тувия попытался притащить из кухни угощение, заранее приготовленное его сыновьями. Потом в течение тридцати двух хороших, даже счастливых лет совместной жизни Вере нравилось передразнивать эти его первые минуты – как он идет в кухню за миской арахисовых орешков или соленых палочек и продолжает свой рассказ про личинки червей, про моль и про огонь в кострах, и возвращается к ним с пустыми руками, и, виновато улыбаясь с красивой ямочкой на левой щеке, топает обратно в кухню и приносит оттуда баночку с полевыми цветами.
Пока отец Рафаэля совершал этот свой сложный брачный танец, Вера осматривалась вокруг, пытаясь что-то узнать про его умершую жену. На стенах не было никаких фотографий или портретов, не было ни полок с книгами, ни ковров. Абажур на торшере был в дырках от моли (были ли это мотыльки, тянущиеся к лампе, о которых он рассказывал?). Клочки пожелтевшей губки торчали из-под пенистой резиновой обивки дивана. Подруга Веры указала подбородком на сложенное инвалидное кресло и кислородную подушку, запихнутые между стеной и столом. Вера почувствовала, что болезнь, которая годами царила в этом доме, еще не до конца из него выветрилась. Что какая-то ее часть все еще здесь присутствует. Осознание того, что у нее здесь имеется соперница, толкнуло Веру выпрямиться во весь рост, приказать отцу Рафаэля наконец-то присесть и нормально с ними поговорить. Он тотчас хлопнулся на диван, выпрямился и сидел, скрестив на груди руки.
Вера улыбнулась ему из глубины своей женственности, и его позвоночник вдруг как-то оттаял. Подруга внезапно почувствовала, что она здесь лишняя, и поднялась уходить. Они с Верой быстро перекинулись парой слов на сербскохорватском. Вера пожала плечами – жест, означающий, что, мол, «меня это не волнует». Тувия был мужчиной решительным и уверенным в себе, но сейчас, когда напротив него оказалась эта маленькая женщина с зелеными глазами и острым взглядом, ему показалось, что из-под ног уходит земля. Взглядом настолько острым, что раз в несколько минут нужно отвести от нее глаза. Подруга перед тем, как уйти, попросила разрешения сфотографировать их своим «Олимпусом». Оба застеснялись, но она сказала: «Вы так здорово вместе смотритесь», – и они взглянули друг на друга и впервые увидели, что могут оказаться парой.
Ради съемки Вера поднялась со своего пыточного кресла и подсела к Тувии, на его узкий диван. На черно-белой фотографии Вера сидит откинувшись назад, опершись на руку, смотрит на него чуть отстраненно и улыбается. Ощущение, что поддразнивает его и тем наслаждается.
Это 1963 год. Начало зимы. Вере – сорок пять. На лоб ниспадает локон, губы полные, сочные. Брови тонкие, нарисованные карандашом, как у Хеди Ламарр.
Тувии – пятьдесят четыре, на нем белая рубашка с широким воротом, шерстяной свитер ручной вязки с толстыми «косичками». У него густая черная шевелюра с прямым пробором. Руки с огромными кулачищами скрещены на груди. Он смущен, и лоб блестит от волнения.
Тувия сидит нога на ногу, и только сейчас я замечаю, что под столом – два деревянных ящика, покрытых белой скатертью, и большой палец Вериной правой ноги в открытой босоножке слегка прикасается к подошве левого ботинка Тувии и будто щекочет ее снизу.
Подруга вышла. Вера с Тувией сидят одни, втиснувшись в диван. Когда он поднял руку почесать затылок, Вера заметила черные волосы, торчащие из рукава его свитера. Густые волосы виднелись и на груди и исчезали на красной полоске от бритья на его шее. Это и отталкивало, и притягивало. У ее первого возлюбленного, у ее единственного Милоша, кожа была гладкая, светлая и от загара на солнце становилась медвяной. Верино тело внезапно вспомнило, как они с Милошем, обнимаясь, лезут друг на друга, как котята. Ей нравилось зарыться в его худое, болезненное тело, впрыснуть в него тепло, силу и здоровье, которых у нее хоть отбавляй, и почувствовать, как то, что она вливает в него, и саму ее наполняет. А сейчас у нее свело живот и вытянулось лицо, и она почти уже встала, собираясь уйти. Тувия, не обративший внимания на произошедшую в ней перемену, поднялся на ноги, встал перед ней и сказал, что у него заседание в секретариате, но он считает, что вопрос решен и можно попробовать. И протянул ей руку, как строительную линейку.
Несмотря на тоску по Милошу, это его неуклюжее предложение заставило ее покатиться со смеху. Тувия стоял перед Верой сконфуженный, пытающийся сжаться, как это всегда с ним случалось. «Ну, так что скажешь, Вера?» – спросил он просящим голосом и снова присел на краешек дивана. Тувия казался абсолютно потерянным и совершенно онемевшим. Вера все еще колебалась. Он ей понравился, в нем ощущался мужчина, и он показался ей прямым и понятным («Я сразу увидела его потенциал»), а с другой стороны, она не знала о нем почти ничего.
И именно в этот момент, в самый неурочный час, что характерно для почти каждого важнейшего этапа его жизни, в комнату вошел Рафаэль, младший сын Тувии, с фингалом под глазом, разбитым лицом и запекшейся у рта кровью. Снова ввязался в драку, на сей раз в школе, с ребятами старше него. Как и в любой день и в любую погоду, на нем был все тот же капюшон, что и в день маминых похорон. Он открыл решетчатую дверь, увидел смущенного отца, сидящего возле Веры, и застыл. Вера быстро поднялась и пошла к нему, а он предупреждающе зарычал. Она не испугалась. А стояла напротив него и с любопытством его разглядывала. Рафаэль, как и его отец, смутился под ее взглядом: разумеется, он ее уже видел. Несколько раз встречал ее на дорожках кибуца и в столовой, но,