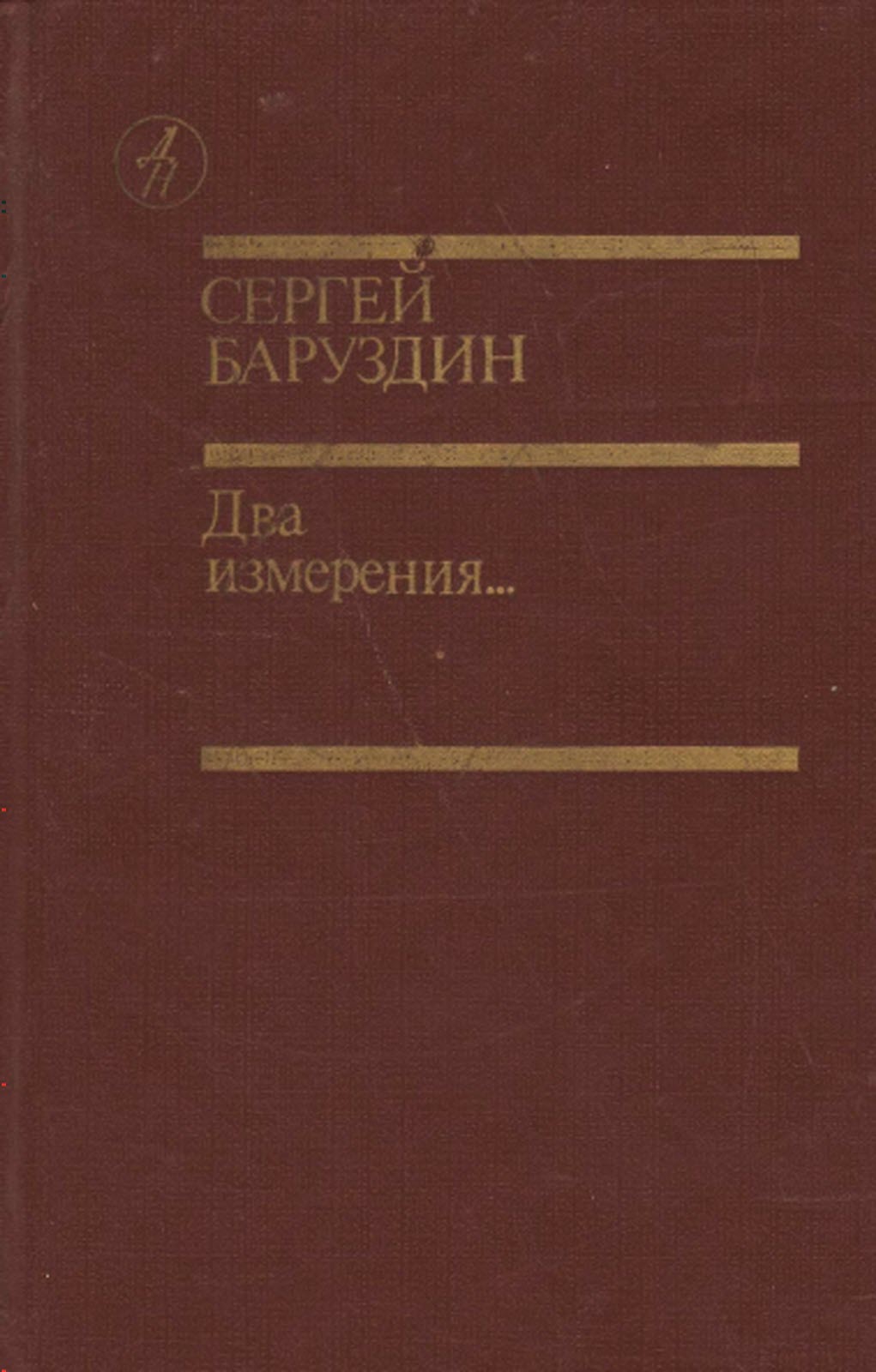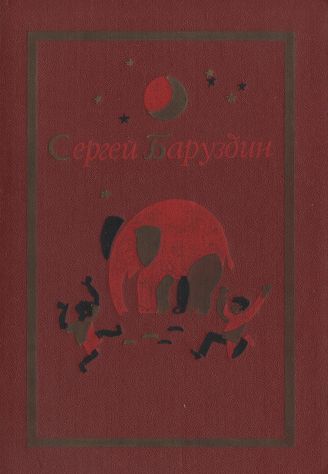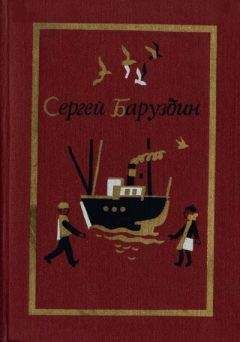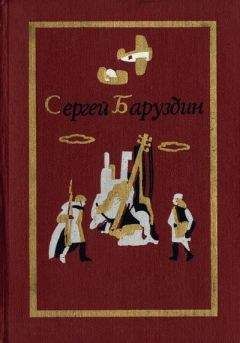он попытался что-то выразить в этом плане.
Но тут и был тупик.
Владея техникой живописи, зная правила композиции, умея хорошо передать форму, Горсков не мог, не умел выразить в своих работах того главного, что дает картине жизнь. Ему часто казалось, что не хватает какого-то основного, последнего, и всего лишь одного-единственного мазка, который вдохнет жизнь в его картину.
Он отчаянно и смятенно метался, то набрасываясь на книги по искусству, то вдруг, запершись в своей комнате, которая одновременно служила ему и мастерской, начинал лихорадочно и беспорядочно писать… Потом неожиданно отключался от всего этого и, словно терзаний не было, становился покорно смирным, на удивление всем ласковым и покладистым, и все свое время лихо рисовал плакаты, пропагандирующие новейшие достижения современной пищевой промышленности или бытового обслуживания…
Занятия в Академии превращались в бессмыслицу, в повторение пройденных азов, и что толку, что его «Каторжный труд лесорубов…» даже купили?
С Верой они познакомились случайно. Во время учебной тревоги. Были носилки, и был он. Его уложили на эти носилки. На Петроградской стороне.
На улице Лахтинской. На захудалой какой-то улочке попался!
Он возмущался.
А она, худенькая дурнушка, командовала. Эксперимент закончился благополучно. При его-то робости!
Он увлекся Верой, как мальчишка, с первого взгляда. Первая девушка, с которой он познакомился всерьез. Первая женщина, которую узнал.
Тогда они долго бродили по городу.
Вышли к Неве.
И даже поцеловались на набережной. Второй раз — на улице Воинова, около Дома писателей.
Потом была еще встреча. У «Европейской», а точнее — у Русского музея.
Кажется, она назначила, а может, и он. Сейчас не помнит…
Он привез ее домой. На Марата.
Он любил свою улицу, улицу Марата, тихо жившую своей тайной жизнью недалеко от шумного парадного проспекта 25-го Октября, бывшего Невского. Любил свой темный большой дом с его гулкими большими подъездами и широкими мраморными лестницами. Совсем рядом с домом — красивая церковь девятнадцатого века, выстроенная по проекту архитектора Мельникова и недавно превращенная в Музей Арктики. Недалеко была Пушкинская улица, уютная и какая-то домашняя, с малоизвестным памятником Пушкину. Он наизусть знал все надписи на нем. «Александръ Сергеевичъ Пушкинъ» — вязью. Даты рождения и смерти. Скульптор Александр Опекушин. Отлито на заводе А. Маран в 1884 году. И строки из «Памятника» и «Медного всадника».
И «воздвигнуть Стъ. Петербургскимъ Общественнымъ Управлением!»».
Мама, Мария Илларионовна, и баб-Маня, мать отца, приняли их хорошо.
Суетились как могли и не знали, что с Верой делать; где посадить, чем угостить…
Вера рассказывала, что работает в Ленсовете машинисткой (курсы окончила), а по совместительству — библиотекарем (подменным) в Российской Академии художеств, куда он собирается поступать. Мама, две младших сестры и совсем маленький брат… Только в Ленсовет далеко ездить.
Баб-Маня поражалась.
— Неужто так?
Мама, Мария Илларионовна, говорила:
— Вы, Верочка, — прелесть!
Это было в тридцать седьмом. Они встречались и в тридцать восьмом, и в тридцать девятом. Стали близки, но о свадьбе разговора не было.
Отец молчал, мама курила.
Алеша уже учился в Академии и видел Веру ежедневно. Вечером дожидался ее после работы. Приходил специально, поскольку лекции часто заканчивались раньше.
А потом — финская.
Город, привыкший к учебным тревогам, стал рядом с войной. Раненые. Маскировочные шторы. Нет очередей, но в магазинах продукты выдаются по норме: в одни руки — 500 граммов масла, 1 килограмм хлеба, крупы — по 1 килограмму, сахар — 1 килограмм. Патрули. А там, на «линии Маннергейма», — отец…
Это — рядом; слышны выстрелы, взрывы. По ночам особенно хорошо слышны.
У Веры сестренка болела, а потом и у младшего брата — свинка… Ленсовет бросила, поскольку в Академии теперь постоянная работа. Интереснее.
Алеша проводил отца в армию. Вера обиделась, что он не сказал ей об этом.
— Как же так?
— Не знаю…
— Ты обо мне забыл?
— Не знаю…
Уход отца отодвинул в сторону все, в том числе и Веру. Три года Академии и первые сомнения угнетали его, и он не мог ни с кем поделиться ими. Ни с мамой, ни с баб-Маней, ни тем более с Верой. Или эта война перевернула в нем все? Он не видел Веру с неделю, и вот они словно чужие.
— Не знаю, — сказал он.
Да что у него с Верой? Кроме встреч, поцелуев, торопливой близости?
— Почему так?
— Забыл?
А сейчас ему как-то чудно и безразлично, что он вновь встретил ее.
Странно!
А может, нет?
И он вспомнил последнюю размолвку.
Это было год или полтора назад. Кажется, два. У кинотеатра «Титан», когда они вышли оттуда. Смотрели какой-то отличный фильм с поцелуями, и он завелся.
— Хотела бы быть актрисой, как Ладынина! — сказала она, выходя из кино.
— Глупо, — пробурчал он, вспоминая Крючкова, Андреева и Алейникова.
— Что — глупо? — спросила она.
— Целоваться, как Ладынина! — выпалил он. — Сегодня со мной, завтра с актером… Кино!
— Ну и что? — сказала она. — Актер должен уметь целоваться. У Ладыниной, наверное, муж есть, а она…
Это почему-то его взорвало.
Вздор.
Но так было.
Теперь все это позади.
И Вера вновь была близкой, желанной, только не хотелось говорить с ней об Академии и о своих сомнениях. Он и сам пока плохо разбирался в своих тревожных мыслях, но чувствовал, что в его теперешней жизни должен произойти какой-то решительный поворот.
Город уже становился другим.
Они ходили по затемненным улицам и более светлым набережным. Кажется, в кино были раза три и сколько-то раз — дома, на Марата. Говорили о пустяках.
…Стоял декабрь тридцать девятого.
Мама не читала газет, а Алеша по утрам схватывал «Ленинградскую правду», быстро пробегал заголовки и информации…
«Красная Армия несет свободу и мир трудящимся Финляндии», «За родину, за Сталина — вперед!», «Каллио объявил состояние войны с Советским Союзом», «Обращение ЦК компартии Финляндии (радиоперехват. Перевод с финского) «К трудовому народу Финляндии», «Кировские дни в Ленинграде и области», «Успехи кировских многостаночников», «Доклад «100 лет работы Главной астрономической обсерватории в Пулкове» сделает профессор В. В. Шаронов», «Злостное нарушение правил светомаскировки», «Семья, родственники и друзья умершего художника Ивана Георгиевича Дроздова благодарят все организации и всех лиц, почтивших память покойного…»
Алеша не знал такого художника.
«14 декабря в 11 часов утра в клубе Невхимзавода (правый берег Невы, дом № 70) начинается слушание дела по обвинению М. Сытдикова и П. Иванова, совершивших бандитское нападение на младшего командира Ожигова и ранивших красноармейца Шутова».
Почему-то в каждом номере уголовная хроника.
Стихи Твардовского «Кто друг, кто враг»: