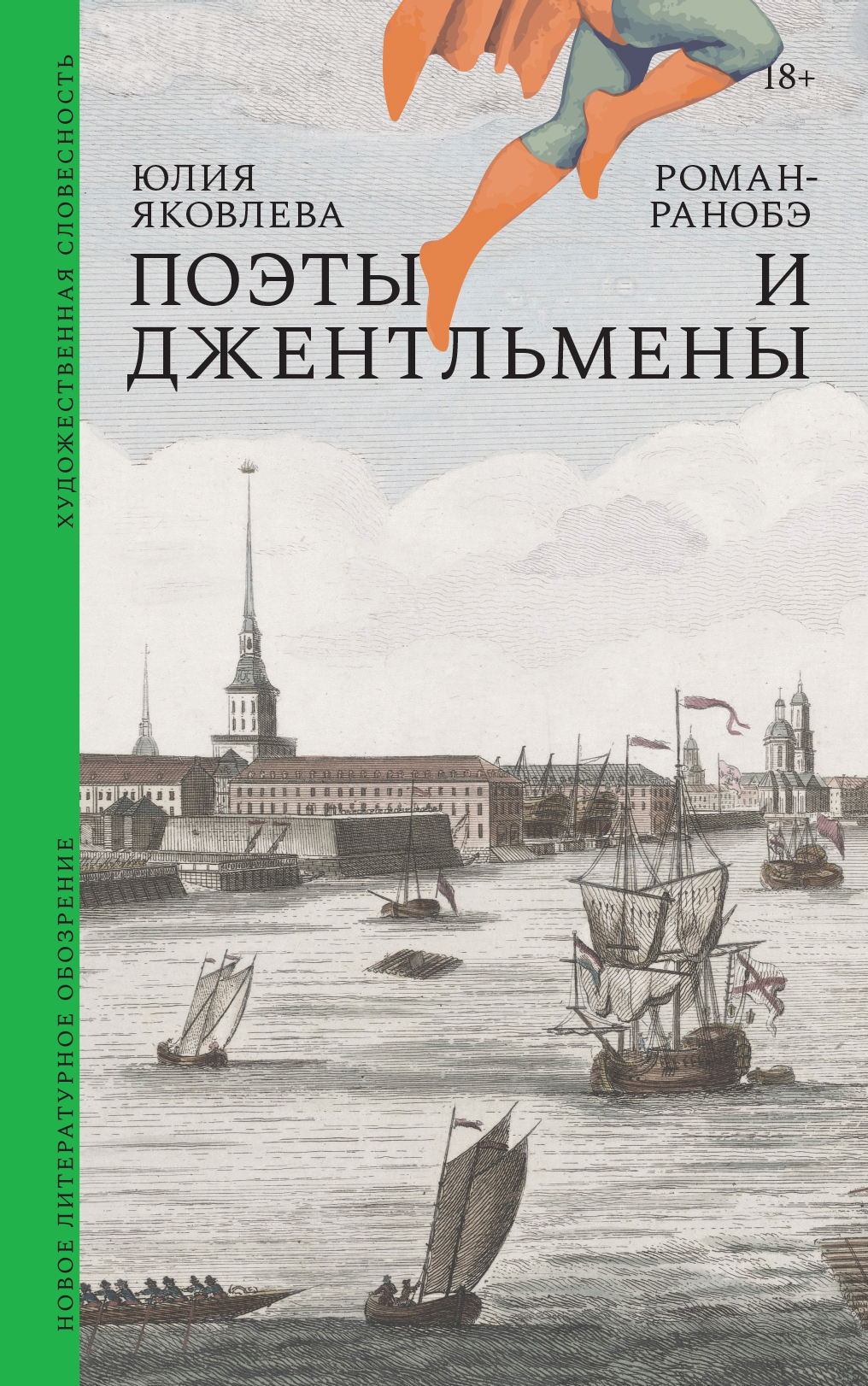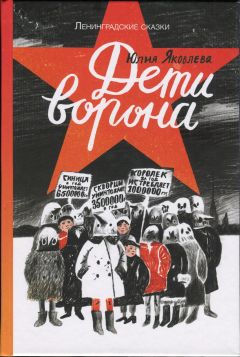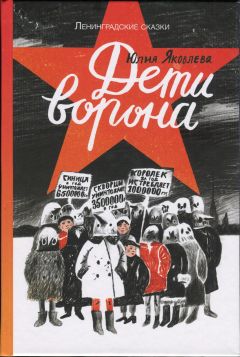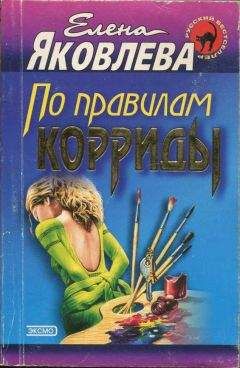крикнул Тучкову Даль. – За телами.
Но никто в его сторону и не глянул.
Тучков кивнул адъютанту:
– Похороним всех своей командой. Отрядите Морозова. Не впервой. Поп всех отпоет. Господь Бог сам разберется, кто чей.
– …И пленных ни одного, – тихо отметил адъютант. – Опять.
– А вот здесь вы изволите ошибаться! – возразил Даль.
На сей раз все обернулись на него сразу же.
– Что?
– Как вы сказали?
– Как-с?
– Что? – прохрипел Тучков. – Где?!
Офицеры поспешили в хирургическую палатку. Обступили раненого. Даль растолкал их, опасаясь, что пленный успел умереть. Тот выглядел ровно так, как Владимир Иванович его оставил: ни кровинки в лице, холоден. Жив. Даль сам не понимал, радоваться этому или нет, – лучше шотландцу тоже не стало.
Господа офицеры молчали. Все они немало повидали раненых. Но этот внушал непонятный тихий ужас, какой лошадям внушают мертвые.
– Он в беспамятстве?
– Он будет жить? – подал голос один из командиров.
– Займитесь же им скорей, доктор! – потребовал Тучков. – Даже если он придет в себя на несколько минут, попробуем его допросить! Как знать, быть может, он разъяснит происходящее.
Владимир Иванович был правдоруб по натуре. И запросто мог бы упереться рогом – хоть бы и перед самим полковником Тучковым: мол, здесь решаю я, кого оперировать в первую очередь. Вернее, не я, а медицинская необходимость.
Но в данном случае честно признал: он сам не понимает, насколько плох шотландец. И потому без споров принялся мыть в тазу руки.
– Да поторопитесь же! – топнул Тучков.
Даль раскрыл ящик с инструментами. Разрезал и снял куртку, рубаху, обнажив грудь, покрытую рыжей шерстью. Тело было таким белым, что казалось голубоватым. Даль невольно содрогнулся, но тут же успокоил себя: «У рыжих это часто». Бледность. Необычная бледность. «Ничего необычного!» Вынул бутыль с антисептиком. Отнял пробку, чтобы не взболтать осадок. И щедро плеснул на рану.
– А-а-а! – заревел шотландец, офицеры невольно отпрянули.
Глаза его широко раскрылись. Члены затряслись. Пальцы дрожали мелкой дрожью. Судорога несколько раз подкинула тело.
Даль схватил его за руку. Но с таким же успехом мог пытаться остановить бьющуюся лошадь.
– Держи! – заорал, чувствуя, что не сладит.
Фельдшер, обычно помогавший держать раненых при ампутациях, – детина с бычьей шеей – тут же навалился отработанным движением, подмял под себя. Даль наклонил над раной бутыль с антисептиком. Опять ударил чесночный запах. Шотландец заревел пуще. Выгнулся. Силач-фельдшер отлетел, отброшенный.
Шотландец вскочил на ноги. Кожа покрылась язвенными пятнами. От них шел сизый дымок. Из глаз, ушей и носа струилась черная вязкая кровь.
Бакенбарды и волосы стояли дыбом.
«Похож на льва», – подумал Даль.
А затем глаза шотландца выкатились из орбит. И лопнули, как перебродившие виноградины.
– Господь всемогущий! – вскрикнул Тучков, хотя обычно поминал Господа исключительно скептически. Шотландец, как был в одной юбке и шерстяных гольфах, ринулся из палатки, выставив вперед руки и давя ногами по лежащим на полу.
– Держи!
– Не дайте ему уйти!
Перепрыгивая через раненых, офицеры выскочили. Даль за ними. И тут же впечатался лицом в спину адъютанта.
Рассветное солнце приподняло край неба, показало нежную розовую, золотую изнанку.
– Господь всемогущий, – просипел Тучков. Его религиозность проделала в эту ночь долгий путь.
Шотландца не было.
Ни больного, ни раненого, никакого. Точнее, ни единого. На поле схватки лежали только трупы в русских мундирах, подставляли солнцу белые кресты портупей.
– Эт-то… – заикаясь, предположил адъютант, цепляясь за разумное объяснение изо всех сил, – я п-п-понял. Рота Морозова, значит, сперва неприятельских солдат похоронила. А потом…
Никто не успел возразить, что рота Морозова проделала это, должно быть, с какой-то нечеловеческой быстротой, – как из-за хирургической палатки – будто нарочно – вывернула эта самая рота. С сержантом Морозовым во главе. Лопаты на плече, во рту цигарки. Следом трусил полковой священник. Кадило в его руках еще не было зажжено. Лопаты блестели. Совершенно сухие.
Увидев искаженное лицо Тучкова, Морозов встал во фрунт, козырнул:
– Виноват.
– Вольно. Доложить, – бросил Тучков.
– Задержались, ваше сиятельство. Виноват, – повторил он. – После ночной вылазки позволил роте передохнуть и покурить, я…
Но Тучков махнул рукой:
– Действуйте согласно ранее данному приказу.
– А где покойные шотландцы? – с невинным любопытством пробасил батюшка.
Даль отошел к отвесной каменной круче. Казалось, сидит атлант: обширная спина, голову втянул в плечи. Каменные ягодицы закруглялись где-то над головой доктора. Чтобы унять в руке меленькую дрожь, Даль приложил ладонь к камню. Влажный холод. Утренняя роса сверкала алмазами. Клочок тумана хотелось сдернуть и обтереть им пылающее лицо. Наверху небо не спеша рассказывало все, что знает о перламутре; выходило много. Даль зажмурился от укола света и опустил взор. В горле першило, в глазах – будто песок, в мозгу тоже. Еще одна бессонная ночь. Еще одна ночь без ответов. Только вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы…
– Да твою ж мать налево. – Даль шарахнул по каменной заднице кулаком. Раздался треск, с которым рвут портянку. Не такую, какую положено по уставу. А такую, с которой наварил себе сперва поставщик, потом интендант. Кулак провалился в прореху. По коже царапнули края. Даль задергался, вытащил. Уставился на дело кулака своего. Дыра была неровная, по краям торчали волокна. Сквознячок, что шевелил их, пах неплохими духами. Даль старался не слушать звон в груди. Осторожно приблизил к прорехе лицо. Глаз.
***
Петербургский денек за окном был сереньким, мокреньким – словом, самым обычным. Хозяйка недавно встала. Уже протерла лицо кубиком льда. Но еще не оделась. Так что пытливый взор легко мог удостовериться, что госпожа Жюли Гюлен стройна, как пальма. Ее бюст, ее талия, ах! И все это без ухищрений парижского корсета фасона «наяда». Сквозь пеньюар просвечивала розовая кожа. Рыжевато-золотистые волосы были распущены по плечам. Госпожа Гюлен задумчиво водила по ним щеткой. И поглядывала в зеркало не столько на себя (в своей красоте она была уверена), сколько на господина в кресле.
Он был жалок.
А его предложение – жалким и возмутительным.
– Но Мишель! – Госпожа Гюлен возмущенно подняла брови. Проверила отражение в зеркале. На лбу появилась морщинка, некстати намекавшая, что госпоже Гюлен несколько больше лет, чем она сообщила при заключении контракта с петербургским Французским театром. Поэтому брови пришлось опустить. А гнев, таким образом, сменить если и не на милость (до этого было еще далеко), то на холодное презрение, которое обеспечивало лицу гладкость.
– Дорогая Жюли, я в вашей власти, – лепетал господин. – Какой конфуз… Какое положение… Безвыходное!
Безвыходность заключалась в том, что титул князя Туркестанского Мишель, то есть Михаил Аркадьевич, уже получил, указом его императорского величества. А победу, решительную победу в афганском Туркестане, у англичан все еще не вырвал. Хуже: невозможность этой победы теперь была ясна даже ему, человеку довольно глупому.
– Застрелитесь, – предложила Жюли. Выражение сочувствия обозначило бы морщины у носа, а потому было некстати.
Мишель схватился за волосы: реденький венчик вокруг лысины, прикрытой париком. Сам парик он не трогал, опасаясь сбить.
– И это все, что вы можете мне сказать?! После…
Он хотел добавить многое…