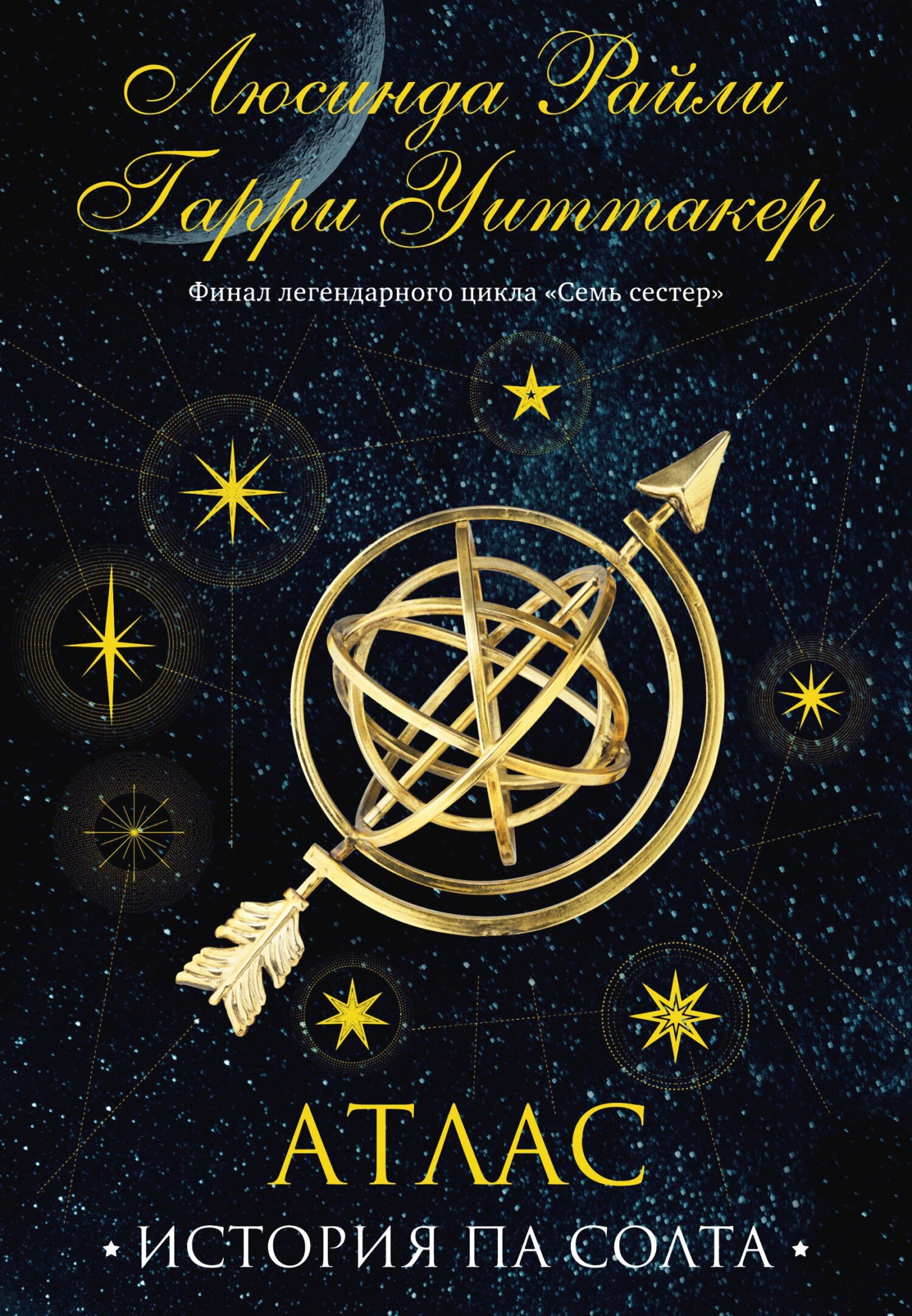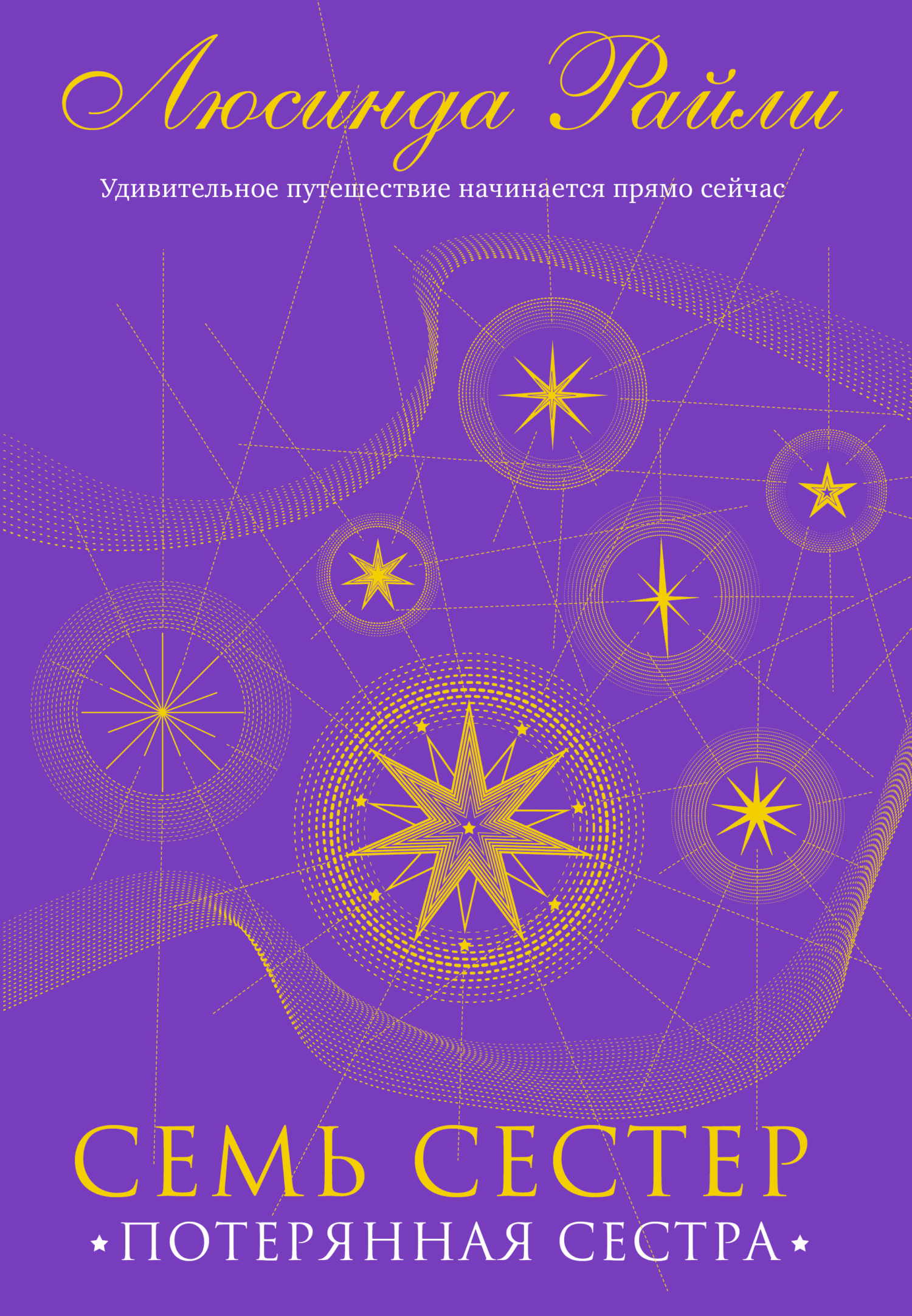какой грустной она казалась во время нашей последней встречи. С тех пор я узнал, что ее звали Изабеллой, сокращенно Бел. Она и мсье Бройли, ассистент в скульптурной студии Ландовски (он попросил меня называть его Лореном, хотя я все равно не произносил ни слова) были безумно влюблены друг в друга. И в тот вечер, когда Бел выглядела такой грустной, она пришла проститься не только со мной, но и с Лореном.
Хотя я был очень молод, я много читал о любви. После ухода папы я прошелся по его книжным полкам и узнал множество необыкновенных вещей о жизни взрослых. Сначала я предполагал, что описание физического акта любви предназначалось для того, чтобы придать повествованию комедийный оттенок, но оно повторялось у авторов, которые определенно не были юмористами, и я осознал, что речь идет о реальных вещах. Вот это я точно не собирался записывать в своем дневнике!
Я тихо рассмеялся и прикрыл рот ладонью. Это было странное ощущение, поскольку смешок был неким проявлением радости, естественной физической реакцией.
– Господи! – прошептал я. Было еще более странным слышать собственный голос, который казался более глубоким с тех пор, как я проронил последнее слово. Никто не мог услышать меня здесь, в мансарде; обе горничные находились внизу, где занимались уборкой, полировкой мебели и бесконечной стиркой белья, развешанного на веревках за домом. Но, даже если они не могли меня услышать, нужно было соблюдать осторожность, поскольку, раз я мог смеяться, значит, имел голос и умел говорить. Я постарался думать о грустных вещах, что было трудновато, ведь, несмотря ни на что, мне удалось добраться до Франции, периодически исчезая в собственном воображении и думая о хорошем. Я думал о двух горничных, чью болтовню я слышал через тонкую стенку, разделявшую нас по ночам. Они жаловались на скудную плату, слишком долгий рабочий день, комковатые матрасы и на свою холодную спальню в мансарде, не отапливаемую в зимнее время. Мне хотелось постучать кулаком в стенку и крикнуть, что им еще повезло жить в отдельной комнате и получать жалованье, пусть и небольшое. Что касается холодной спальни… Я успел познакомиться с французским климатом, и, хотя Париж, на окраине которого мы жили, находился на севере Франции, при мысли об ужасе перед температурой немного ниже нуля мне снова хотелось смеяться.
Я закончил первую запись в своем «официальном» дневнике и прочитал ее про себя, представив себя на месте мсье Ландовски, с его забавной бородкой и пышными усами.
Я живу в Булонь-Бийанкуре. Меня приютила радушная семья Ландовски. Их зовут мсье Поль и мадам Амели. У них четверо детей: Натали (20 лет), Жан-Макс (17 лет), Марсель (13 лет) и Франсуаза (11 лет). Все они очень добры ко мне. Они говорят, что я был тяжело болен и мне понадобится время, чтобы восстановить силы. Горничных зовут Эльза и Антуанетта, а кухарку – Берта. Она все время дает мне свои чудесные пирожные, чтобы «подкормить» меня. В первый раз она принесла мне целую тарелку. Я съел все до крошки, а через пять минут мне стало очень плохо. Когда доктор осмотрел меня, то сказал Берте, что мой желудок съежился от недоедания, поэтому она должна кормить меня мелкими порциями, иначе мне станет совсем плохо и я могу умереть. Думаю, это расстроило Берту, но надеюсь, что теперь я ем почти нормально и могу оценить ее стряпню по достоинству. В семье есть еще одна прислуга, с которой я пока не встречался, но здесь много говорят о ней. Это мадам Эвелин Гельсен, и она работает экономкой. Сейчас она в отпуске и навещает своего сына, который живет в Лионе.
Я беспокоюсь, что семья тратит на меня слишком много денег, со всеми расходами на еду и на доктора, приходившего ко мне. Я знаю, как дорого могут обходиться врачи. У меня нет денег и работы, и я пока не понимаю, как отплатить за их щедрость. Не представляю, как долго мне еще разрешат оставаться здесь, но я стараюсь радоваться каждому дню в этом замечательном доме. Я благодарю Бога за их доброту и каждый вечер молюсь за них.
Я погрыз карандаш и удовлетворенно кивнул. Я выбрал упрощенный стиль и добавил две-три грамматические ошибки, чтобы сойти за обычного десятилетнего мальчика. Не стоило даже намекать на образование, когда-то полученное мною. После папиного ухода я старался продолжать занятия так же прилежно, как раньше, но без его руководящих наставлений дела заметно ухудшились.
Достав из ящика старого стола лист восхитительно белой бумаги – а для меня собственный стол был невообразимой роскошью, – я приступил к составлению письма.
Студия Ландовски
Улица Муссон-Дерош
Булонь-Бийанкур
7 августа 1928 года
«Дорогие мсье и мадам Ландовски!
Я хочу поблагодарить вас обоих за этот подарок. Это самый чудесный дневник, какой у меня был, и я буду писать ежедневно, как вы и просили меня.
Еще спасибо за то, что приняли меня к себе».
Я едва не добавил «Искренне ваш…» и свое имя, но вовремя остановился, аккуратно сложил лист бумаги четыре раза и написал наверху их имена. Я собирался положить письмо на серебряное блюдо, куда поместят завтрашнюю корреспонденцию.
Я еще не достиг того места, куда направлялся, но достаточно приблизился к нему. По сравнению с уже преодоленным расстоянием, это было все равно что прогуляться по улице Муссон-Дерош и обратно. Но я пока не хотел уходить отсюда. В разговоре с Бертой врач резонно заметил, что мне нужно укрепить не только физические, но и душевные силы. Хотя он не интересовался последним, я мог бы сказать ему, что худшим для меня были не телесные испытания, а страх, до сих пор терзавший меня изнутри. Обе горничные, возможно, уставшие жаловаться на остальных жильцов, сообщили мне, что я регулярно кричу по ночам и бужу их. Раньше я настолько уставал, что засыпал, как бревно, но здесь привычка к отдыху и теплой постели размягчила меня. Я часто не мог заснуть после очередного кошмара. Даже не уверен, что «кошмары» – верное слово для описания этих видений. Жестокий разум заставлял меня заново переживать то, что произошло со мной на самом деле.
Встав и подойдя к кровати с дневником в руке, я залез под одеяло, в котором не нуждался, так как было по-настоящему душно. Я засунул дневник в пижамные штаны так, чтобы он плотно прилегал к бедру. Потом я снял кожаный кошелек, который носил на шее, и пристроил его под штанами к другой стороне бедра.