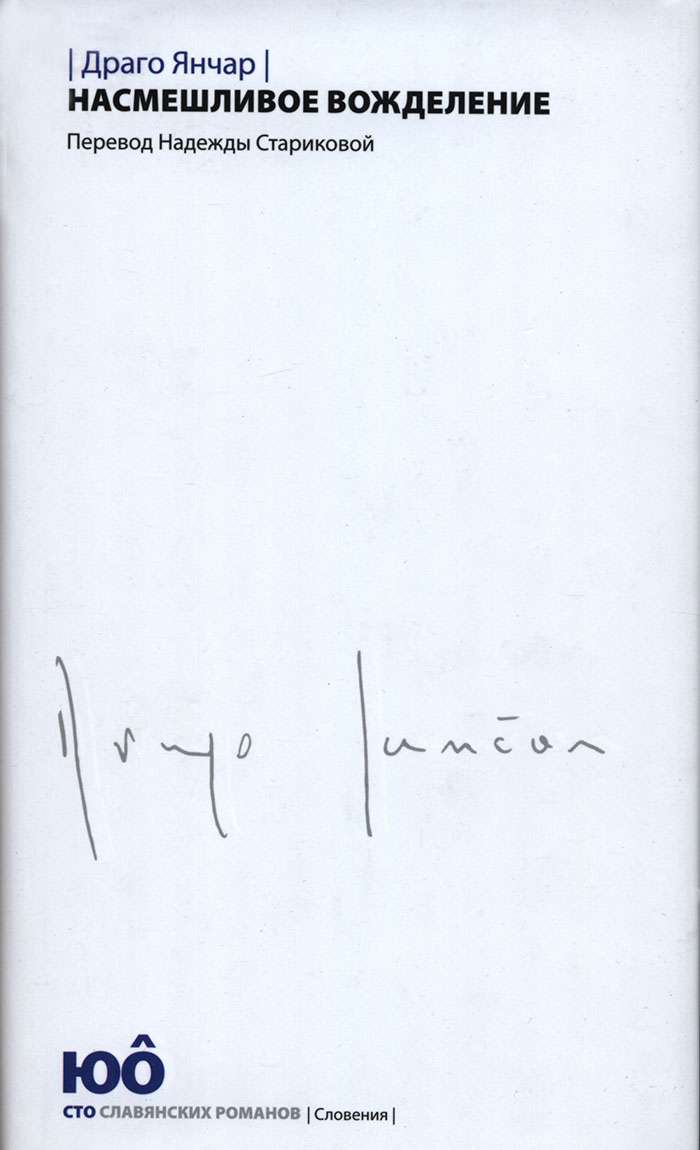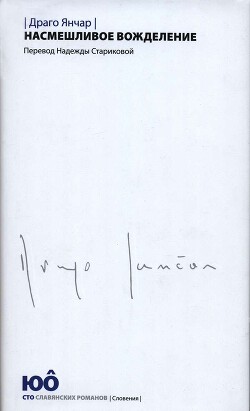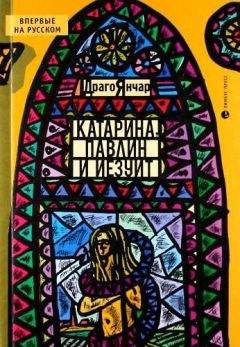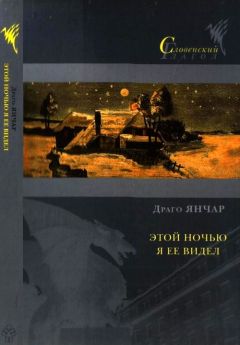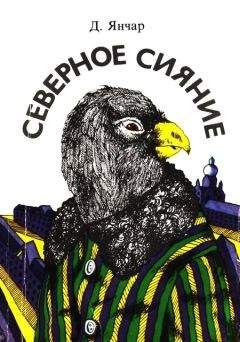мной здесь, на другом конце света происходит. Если когда-нибудь он будет кому-то об этом рассказывать, то труднее всего будет описать запахи, ароматы этих комнат, улиц, зеленых
патио, деревянных домов в пригородах, воды великой реки, рынка, кабаков, куда утром заваливаются пьяные моряки со своими женщинами. Цвета более представимы, звуки тоже. У каждого на слуху какой-нибудь блюз и диксиленд, попсовые песенки и мелодии кантри — стаккато американского аудио-пространства универсально. И цвета южного неба можно передать. А вот запахи! Как можно передать запахи, которые сопровождают тебя на каждом шагу? Может, их нужно описывать красками: патио — зелено-синей, запах коридора — темно-серым, теплым, влажным тоном; улицу по утрам, — разбавленным оттенком желтого, а запах кафе, где черные люди играют джаз, — розовым, пожалуй, даже лиловым. Повсюду переливающийся, приторный, радужный калейдоскоп красок.
Он жил в том самом квадратном модуле улиц, основы которого два столетия назад заложили французы, — La Nouvelle Orléans. Добавить тут нечего. Этим все сказано. И вот он здесь, в начале какой-то своей новой истории и все теперь в его руках.
Он хотел попасть в Нью-Йорк, туда хотят все, но писательская стипендия была выделена в Новом Орлеане. — Там тараканы, — предупредил друг, который весь мир обошел на морских судах. И еще бобы с рисом. — О джазе друг ничего не сказал. Джаз для города, где он появился на свет, факт настолько очевидный, что говорить о нем в связи с Новым Орлеаном, если конечно, ты не гид-экскурсовод, просто неприлично. После попойки, сказал друг-путешественник, если хочешь трезвым попасть обратно на борт, на рынке найдется хороший кофе. Неясно только, зачем ему возвращаться на борт. Корабля-то никакого не будет. Будут библиотека, университет. Чему-то он научится, чему-то сам научит. Эта часть поездки выглядела самой опасной. От одной мысли, что ему придется рассказывать американским студентам о литературе, и хуже того, анализировать их тексты, его ладони вспотели как перед трудным экзаменом или тестом. Он и дома-то не любил говорить о литературе, литература — это то, что пишут и читают, а не то, о чем разговаривают. Но если эти американцы придумали курсы и даже целые школы креативного письма, значит, они знают, что делают. Как показал двадцатый век, они знают все. И если Божье Провидение, облеченное в форму конкурсной писательской стипендии, выбрало именно его, придется говорить о литературе. И есть бобы с рисом. И перед возвращением на корабль пить черный кофе на рынке.
И когда однажды он взглянет со стороны, на себя, на свою жизнь в этом годичном отрезке, ему будет казаться, что тогда по одному из городов американского юга бродил кто-то другой. То, что происходило с ним в этой истории, едва ли будет иметь отношение к реальности. Оно станет частью повествования вместе с красками, запахами и звуками, разноцветными, изменчивыми. Это и ритмичный голос тромбонов по утрам, при пробуждении, и неторопливые черные люди с их радужной раскраской. Сегмент чего-то. Вращение вокруг какой-то оси, подобно вентилятору над его головой. Его друг отправился на корабле вокруг света. В тридцать пять. В этом городе он ел бобы с рисом.
Он знал художника, который собрал свои холсты в кучу, облил бензином и поджег. Художник должен был уехать, изменить свою траекторию. Если ты в тридцать пять не попал в Америку, можно повеситься. Или отправиться в морскую кругосветку. Сжечь свои картины. Или каждую ночь торчать на вокзале, провожая поезда, идущие в Венецию вслед за Томасом Манном. А утром напиться в хлам со всякой швалью. Есть, конечно, и другие варианты, так или иначе связанные с какой-нибудь формой агонии или падения: сознательное прозябание, движение вниз по наклонной, мучения в браке, каторга на престижной работе. И не за горами момент, когда вы проклянете место и час своего рождения. Словению — за то, что она мала и потому люди в ней ничтожны. Европу — за то, что она старая напудренная карга. За туман в низинах. За отбросы, которые не убрали мусорщики.
А Америка большая, и мы все, улыбаясь во весь рот, ей принадлежим.
4
«Как ты упал с небес, о, Люцифер, сын зари! Как ты разбился о землю!» — воскликнул он чуть дрожащим голосом.
Пятнадцать голов мгновенно успокоились, и он поймал на себе любопытные взгляды. Что и требовалось: возбудить любопытство. К тому же профессор Фред Блауманн, сидевший на задней парте, с улыбкой ждал продолжения. Сам пристроился на задней парте, а его отправил в свободное плаванье. Его улыбка означала: этот прыжок в воду опасен, как будешь выплывать? Грегор Градник умолк, завел кулак за спину и медленно, один за другим, разжал все пять пальцев. Считай до пяти, считай до пяти. Этому его научил в Любляне один актер. Пусть думают, что ты в замешательстве и не знаешь, что делать дальше. Его охватил страх, что он и правда не знает.
«Я видел, как он молнией падал с неба».
Разве не блестяще сказано? Похоже на комикс. Американские телевизионные проповедники в первый же день его очаровали. Он притаскивается за десять тысяч километров, сюда, в страну мозгов, прилипших к компьютерам, и на кого же сразу натыкается: на методистов, проповедников из семнадцатого столетия. Пришедших из того времени, когда мир Божий еще был возвышенным, когда это была юдоль сердца. Проповедников, шагнувших с грязной площади, кишевшей свиньями и курами, прямо на сверкающие американские экраны. На которых электронным образом управляемые текущие счета упорядочивают пожертвования верующих. «И в душах наших поселяются падшие ангелы, которых Бог отринул от себя». Неужели они думали, что проповедь — это литературный жанр? За битвой добра со злом в душе человеческой наблюдают демоны и ангелы. У каждой души есть и тот, и другой, и они оба парят над ней в момент принятия судьбоносных решений. Вот и писатель подобным образом наблюдает за своим героем. Кто в итоге одержит победу: неужели падший ангел, тянущий душу вниз, в ад? Схватка и падение обоих ангелов — страшная, красочная, драматичная аллегория. Победит ли добрый ангел, и тогда он, преодолев границы экрана, возьмет душу с собой ввысь, в сияющее царство небесное? Продолжение истории смотрите в телевизионной проповеди каждое воскресенье. При этом мы давно знаем, что проповедь — это не литература. Почему?
Парень с большой цифрой 9 на майке ритмично жевал и не сводил с него неподвижного взгляда. Как сказал ему профессор Блауманн, этот «девятка» был одним из самых способных. Значит, все с