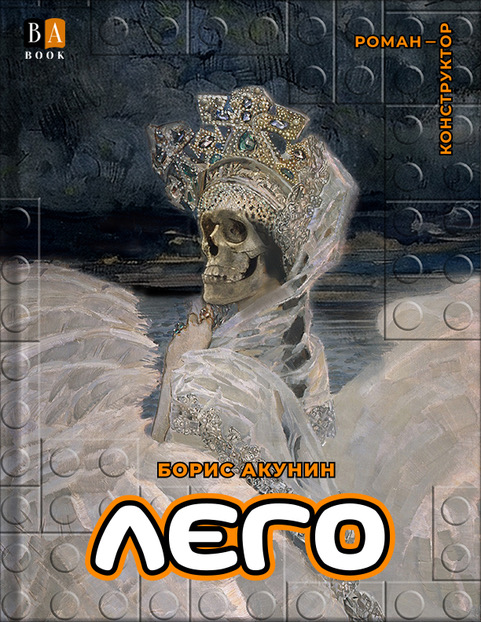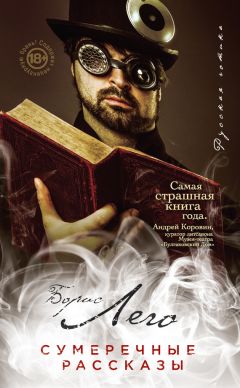бледна, взялась за сердце и прошептала: «Храни тебя Господь, Мишенька». Взгляд ее залучился нежностью, лицо на миг осветилось улыбкой, смысла которой я доселе не понимаю. Потом веки сомкнулись, голова опустилась, и бабушки не стало. Хотел бы и я умереть так же.
Любить в женщине собственную бабушку — не смешно ли? А может быть, я, как это мне свойственно, возвожу турусы на колесах. (Немногие русские могут объяснить происхождение сей idiome, а я благодаря бабушке и Карамзину знаю). Причина моей obsession незамысловата. Вера меня любит, но сохраняет верность Командору, и это распаляет мое тщеславие. Вот и вся разгадка «волненья».
Ах, да что за разница, в чем его причина! Главное, что близ Веры я живу, а вдали от нее засыхаю. Должно быть, это и есть любовь, которую воспевают поэты, как обычно всё безбожно преувеличивая. Каждый день, который я проведу здесь без Веры, будет мукой. Maldito 7 «кыхблэ»!
Пейзаж поначалу был столь же тосклив, как мои мысли. Ветер дул порывами, высокие травы стелились по земле, в черно-сером небе кричали вороны, радуясь непогоде. Вдруг, за плавным холмом, открылся вид, который всякого другого привел бы в еще большее уныние, а меня оживил.
Дорога шла мимо заброшенного мусульманского кладбища. Памятники на нем были большею частью повалены, могилы разрыты, там и сям белели человеческие кости. Посредине торчала угрюмая каменная башня. У нас средневековые мавры ставили на погостах такие же, они называются sentinel de meurte 8 и призваны оберегать покой мертвецов. Однако покоя здешних мертвецов часовой не уберег.
Кто и зачем разрыл могилы, спросил я моего курильщика.
— Та наши дурни, — равнодушно молвил он. И объяснил на смеси русского с украинским, что в прошлом году прошел слух, будто на старом татарском кладбище зарыты сокровища, и «багато дурнив збожеволили» (сбесились). Раскопали всё «кладовище», ничего не нашли, да так и бросили. Теперь мимо «издыты погано».
При звуке моего голоса Максимо немедленно пробудился. Поглядел вокруг, перекрестился. Сказал озабоченно: «Скверная штука тревожить покойников». Как положено настоящему malagueño 9, он очень суеверен. Никого живого Максимо не боится, но зажмуривается от страха, когда слышит про нечистую силу.
За кладбищем дорога поднялась, снова спустилась, и поодаль показались строения. «Вона Буджакивка, — показал кнутом наш казак. — По-иншому, по-татарски, Ак-Сол».
Два десятка домишек стояли на морском берегу под крутым утесом с выбеленной солнцем и ветрами макушкой. Утес видно и дал название деревне. «Ак-Сол» значит «белый левый». Правее виднелся еще один утес, с черною верхушкой. Готов биться об заклад, что прежние жители этих мест нарекли его Кара-Саг, «Черный правый». Народы, живущие в простоте, редко озабочиваются поэтическими названиями.
Мы проехали мимо мазанки, стоявшей наособицу. Дом был нежилой — дверь распахнута, окно разбито, но впрочем живописный со своими белыми стенами и красною черепитчатой, а не соломенной, как у остальных хат, крышей, и вид оттуда должен был открываться превосходный. Я взял сей эскориал на заметку, и когда слободской алькальд, как две капли воды похожий на «Тарас Богданыча», только пообтрепанней, завел ту же песню про «ничого немае», я сразу положил на стол ovejito и спросил: а что же брошеный дом на обрыве, подле старого кладбища?
— Ви, добродию, на ту фатеру не захочете, бо там нечисто, — ответил принципал, изрядно меня удивив, поскольку его собственное жилище сам Авгий счел бы неопрятным. Довольно сказать, что прямо под столом блаженно похрюкивал сладко дремлющий поросенок.
— Пустое. Найму бабу, почистит, — сказал я. — А впрочем как угодно…
И протянул руку, как бы намереваясь забрать «барашка» обратно.
Это подействовало.
— Тут не баба, тут поп нужен, да у нас церквы нема, — проворчал Тарас Второй, но более меня не отговаривал.
По дороге к добытому с такими трудами пристанищу он поведал историю, которую я выслушал с интересом. Она совершенно в духе прелестных иллирийских баллад Мериме.
В доме на отшибе еще недавно проживал в одиночестве некий человек по прозвищу Чаклун (что означает «Колдун»), «дуже пидозрилая людына». Слободские его побаивались и не любили. Несколько дней назад Чаклун вдруг исчез. Дверь хаты была заперта изнутри, но окно выбито, а сам обитатель испарился, притом на столе осталась снедь и, что особенно поразило рассказчика, недопитый штоф «горилки».
— И что ж, Чаклун так и сгинул? Бесследно? — с любопытством спросил я.
— Якби (если б) безслидно!
Мой чичерон перекрестился и сплюнул.
Оказалось, что на склоне утеса, давшего название селению, нашли кострище, подле которого на земле валялась одежда пропавшего колдуна, «дуже справная», и от углей исходил сильный запах паленого мяса. А самого Чаклуна нигде не было.
— Куда ж он мог деться?
Тарас Второй поглядел на меня как на недоумка.
— Як «куда»? Видлетив з дымом до своего хозяина Сатаны.
И опять закрестился-заплевался, притом умудрялся это делать одновременно.
Хорошо, Максимо, тащивший сзади чемоданы, не знает никаких наречий кроме родного андалусийского да кастильского, который он выучил на морской службе, иначе после такого рассказа мой малагуэньо повернул бы обратно, и я бы остался без крыши над головой.
Сейчас, когда я сижу за столом улетевшего с дымом колдуна и пишу свинцовым карандашом в моей тетрадке, Максимо наводит в нашем временном пристанище уют.
Разбитое стекло из рамы он вынул, поскольку это дурная примета, и закрыл ставню, чтоб не задувало ветром. Комната окривела, сделавшись одноглазой — осталось второе окно, со стеклом. Потом мой дядька (назвать Максимо слугою нельзя, он пестует меня с двенадцати лет) соорудил перину, набив мешок травою. Устроил он ложе и себе, по-моему, более мягкое, чем мое, и теперь, напевая, готовится варить на очаге похлебку.
С «фатерой» мне повезло. В христианском смысле Чаклун,