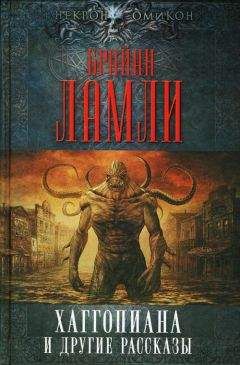мое поздравление. Мама сказала, что оно ей ужас как нравится. И тогда я сказал, что мне ужас как нравится зеленый складной велик из универмага. Мама замолчала и уставилась в стену. Я сказал: «Мама, купи мне велик!» Мама сказала: «На какие доходы? Даже и не мечтай». Я выскочил в прихожую и закатил настоящий концерт. Я орал: «Хочу велосипед! Хочу велосипед! Хочу велосипед!» Мама тоже вышла в прихожую и стала меня уговаривать: «Пойми, мой хороший, у нас нет денег!» Но я продолжал реветь и орать. Мама сказала: «Ну, сыночек мой, не расстраивайся! Давай мы с тобой во что-нибудь поиграем!» Я, еще всхлипывая, сказал ей: «Ладно, тогда поиграем в маму и папу!» Тут мама сказала: «Хорошо». А я сказал: «Окей! Тогда снимай всю одежду и жди меня в спальне!» Мама вытаращила глаза и громко протянула: «Что-о-о-о?» Я сказал: «Раздевайся и жди меня в спальне!» Настала ужасная тишина. Потом мама сказала: «Ты что, не в своем уме, да?» Тогда я опять врубил звук и забился в конвульсиях. Мама сказала: «Ну хорошо, хорошо, только не плачь больше, иду, иду…» И ушла в спальню. Я остался на кухне, чтобы немного выждать. Потом взял черный фломастер и подрисовал себе усы, чтобы все было, как у папы. Нарисовал, значит, усы и направился в сторону спальни. Открыл дверь. Мама лежала в кровати. Она была голая. И до самого подбородка натянула покрывало. Я смотрел на маму. Мама смотрела на меня. И тут я завопил: «Ах ты бездельница! Опять разлеглась, тебе бы только обжиматься! А ну, поднимайся и марш в универмаг за великом!!!»
Роберт К. (3 «А»)
Была суббота, раннее утро, 4 июня 1938 года, когда на дороге, ведущей наверх, к селу, появилась странная колонна.
Во главе ее, опираясь на длинный загибающийся на конце пастушеский посох, шагал похожий на какого-нибудь безумного пророка высокий, крупный крестьянин, мрачный и усатый, который, казалось, один только знал дорогу и все препятствия, с которыми на этой дороге колонна могла встретиться.
За ним шел худощавый и невысокий странно одетый мужчина, несомненно иностранец, в черном городском костюме, в полуцилиндре, то есть в наряде, какой в этих краях можно увидеть лишь на пришедших на похороны или на лежащем в открытом гробу главе состоятельного семейства. Неопределенного возраста, ему могло быть и сорок пять, и семьдесят, что у городских иногда бывает трудно определить. Шел он быстро, с прямой спиной, как часто ходят мелкие мужчины, стараясь скоростью компенсировать недостающую авторитетность фигуры.
Затем следовало нечто самое удивительное, без чего эта история никогда и не появилась бы на свет: крытые носилки, похожие на те, что этой зимой показывали в киножурнале про Лоуренса Аравийского, их, взяв за четыре ручки, несли старик, лет под восемьдесят, и три парня, которых позже кто-то узнал, они были из Цриквеницы.
Что находилось на носилках, видно не было из-за наброшенного на них большого куска белой марли. Угадывалась только фигура человека в сидячем положении, с большой головой и узкими плечами, который время от времени ложился, и тогда казалось, что у него нет ни рук, ни ног, а вместо них щупальца, тонкие и ломкие, как у засохшего осьминога.
За носилками следовала молодая девушка, лет двадцати пяти, не старше, она на непонятном иностранном языке тихо обменивалась фразами с тем, кто был занавешен марлей, а потом, гораздо громче, по-немецки, о чем-то договаривалась с невысоким худощавым господином.
За ней шагали шестеро крестьян, всем хорошо известных, из окрестных сел или из Цриквеницы, они несли сундуки с вещами. Сундуки были громоздкими и неповоротливыми, словно в них перевозят архив знаменитой фирмы, теперь обанкротившейся, или спасают его во время войны, или же они просто принадлежат богатым людям, которые никогда не путешествуют по железной дороге сами, а всегда имеют рядом множество носильщиков и помощников, которые заботятся о том, чтобы каждая вещь в целости и сохранности добралась до места назначения и в конце концов была размещена, поставлена или положена именно там и так, чтобы все выглядело точно как дома, и по завершении пути нельзя было бы даже заметить, что поездка завершилась, а любое место, куда ни поедешь, как две капли воды походило бы на то, с которого поездка началась. Возможно, как раз поэтому богатые господа выглядят так, будто им всегда и всюду немного скучно.
В хвосте колонны, ни жив ни мертв, тащился белобородый старик. Хенрик.
Его имя стало известно первым, потому что худощавый господин несколько раз оглядывался и спрашивал его, сперва на своем непонятном языке, а потом и по-немецки, видимо, для того, чтобы местные его тоже поняли и не заподозрили, что он что-то скрывает: «Хенрик, вы живы?» На это старик кивал головой и, кивая, подтверждал, что жив несколькими всегда одними и теми же непонятными словами. Колонна с носилками прошла через село с первыми лучами солнца и продолжила путь в сторону горы, к Немецкому дому.
Хотя казалось, что в такую рань все еще спали, и никого не было ни на дороге, ни в окрестных виноградниках и садах, на утреннюю мессу, несмотря на то что была суббота, собралось чуть не полсела. Народ пришел, чтобы услышать, что же это было, на заре. Первым никто не спрашивает, но у всех ушки на макушке, надеются, что кто-то другой заговорит. А может, не были уверены, не привиделось ли им все, или хотели скрыть, что не знают чего-то, что, возможно, должны были бы знать. Все насторожены, всем страшно, причем не только в эту субботу, а уже несколько месяцев и даже лет. Настали смутные времена. Народный лидер, Мачек, так же, как и все они, пока лишь прислушивался, премьер Стоядинович в Белграде строил из себя югославского Гитлера, толпа скандировала ему: «Во-дьжа, во-дьжа, во-дьжа», и это слово, отраженное каким-то звуковым зеркалом, начинало звучать как «дьжа-во, дьжа-во, дьжаво!», и следовало быть осторожным, весьма осторожным, не спешить с выбором партии и стараться не говорить вслух всего, что знаешь. И тогда всем и каждому будет казаться, что ты встал именно на их сторону, и что ты всей душой их поддерживаешь, но при этом настолько тихо, что те, другие, с которыми у тебя нет ничего общего, этого не замечают, и им, когда те, первые, не обращают на тебя внимания, может показаться, что ты всей душой с ними.
В этом молчании,