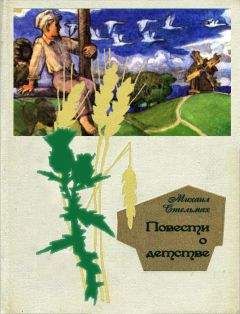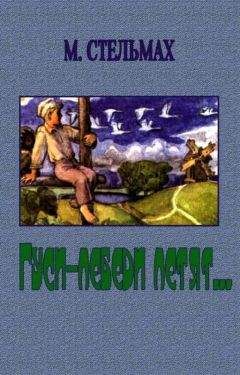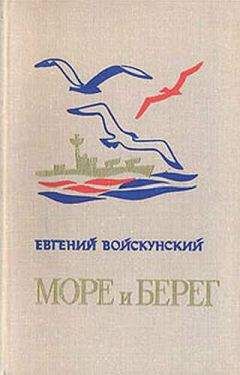- Да, - сказал Киров, - вы правильно говорите, с участием. Только у вас слишком много слов-паразитов выскакивает.
- Поневоле выскочат, - сплюнул Степанов. - Эх...
- А что, эти выражения вам помогают? - насмешливо спросил Киров.
Степанов осекся. И тут бежит руководитель работ, бледный, трусится.
- Вы - главный инженер?
- Точно так, я.
- Вот товарищ справедливые вещи говорит. Вы даете бесполезную работу, это же вредительство!
- Товарищ Киров... - еле выговорил инженер.
Глянул тут Степанов на своего слушателя и бежать. А Киров разделал под орех руководителя и говорит ему, что нужно болеть сердцем за стройку, как этот вот горячий товарищ водолаз. Поворачивается, чтобы показать на Степанова, а того и след простыл.
Спросил Киров у нас, куда делся приятель, а Степанов замкнулся в рубке баркаса и не открывает дверь. Так Киров и ушел. "Жаль, - говорит, - хороший работник, беспокойный, только у него словесных отходов в разговоре многовато".
Федя хотел сразу же с нашего бота списаться, чтобы Киров его опять не увидел. Но начальство сняли, а его не отпустили.
И с тех пор, как почувствует, что у него нехорошее слово может вырваться, сразу по сторонам оглядывается. "Подумал, - говорит, - почему так ругаюсь, для чего? У нас в семье не было принято, никто не сквернословил. Я сперва это лихостью считал, попал к каюшникам{23} - такая там ругательщина стояла! Никто не делал замечаний, ну и привык, будто к курению".
Смотрим мы, вроде подменили Степанова. Прекратил выражаться. Не легко это, конечно, ему доставалось. Но стал говорить по-человечески.
- А где он сейчас? - спросил Гаранин.
- Сегодня вечером за пайком придет.
Все помолчали. Над головами раздались тяжелые шаги. Люк открылся, и в кубрик ворвалось облако морозного пара. По трапу шумно спустились несколько водолазов, а с ними Степанов.
- Легок на помине! - сказал Гаранин и похлопал Степанова по плечу.
Водолазы расселись.
- Угощайтесь, - сказал Калугин. И передал им свой кисет.
- Кирова вот вспоминаем, - повернулся к водолазам Лошкарев. - Помните, ребята, Володарский мост?
- Ну, как не помнить, - отозвался боцман. - Сергей Миронович сам лично руководил строительством. Водолаз Парамонков тогда предложил для моста подвезти по Неве чугунные фермы на деревянных эпроновских понтонах. Ферма на берегу строится, каждая весит три тысячи шестьсот тонн. Для нее надо специальные леса строить на воде, сваи заколачивать. А Нева тут широкая, и глубина большая. Очень дорогое сооружение получается. А тут никаких сооружений не надо. Наши плавучие понтоны прямо на воде ставь. Киров сразу заинтересовался. "Понтоны? Отличная идея, - говорит. - Мы на этом миллионы сэкономим!"
Очень понравился Кирову смекалистый Парамонков. Смотрит он на его руки, крепкие, узловатые, как крабы. "Ого, - говорит, - одна ладонь у вас шире моих двух ног!" А Парамонков отвечает: "Вот таких у нас на флот прежде подбирали. С тысяча девятьсот тринадцатого года под водой". И показал Кирову старую водолазную книжку. Пожал Сергей Миронович руку Парамонкову, снял фуражку и по старинному русскому обычаю низко ему поклонился. Вот какой был Мироныч! От рабочего класса на миллиметр не отрывался.
- Правильно, - поддержал капитан, помешивая щепочкой в кастрюле. Когда я в порту служил, пришлось раз иностранцев по Ленинграду водить, город показывать. Строили тогда кино "Гигант". Вдруг среди рабочих шепот: "Киров пришел! Киров!" А иностранцы его не знают, на шепот не обращают внимания. Работница одна неумело кладку делала. Вот Киров подошел к ней, взял керном раствор и по всем правилам обмазал кирпичи. Это иностранцам понравилось. "Кто это?" - спрашивают. Назвал. Загалдели разом: "Кирофф! О, о! Вери велл! Кирофф!" В день похорон Кирова работница, которой он кладку показывал, выступала. Она говорила о нем просто, как умела, и плакала.
Больше никто ничего не сказал. Мы все задумались. Завтра восемь лет со дня смерти Сергея Мироновича.
- Товарищи, - вдруг предложил Гаранин, - давайте отметим годовщину памяти Кирова. Я предлагаю поднять потопленный немцами речной трамвай, на котором Сергей Миронович на острова ходил. Судно лежит на грунте всего в пяти метрах от нас...
- Да, плавсредства нам очень нужны, - сказал капитан.
- Не нужны, - тихо заметил Лошкарев.
- Сейчас не нужны, - согласился капитан, - а весной понадобятся, для десантных операций.
- Может быть, и не понадобятся, - сказал Лошкарев. - Поднимем, и будет лежать на берегу, коробиться от ветра и дождя. А присмотреть некому, мы же на днях все разъедемся.
- Да разве дело только в судне, - огорчился Степанов.
- Нет, конечно...
Уже принявшие полную меру горестей, военных лишений, потерь, мы не знали, сколько еще времени протянется бесконечно тяжелая блокада. Но чем же иным, как не этим судном, могли водолазы отметить светлую память Кирова?
- Я готов! - по-военному отчеканил Гаранин и поднялся.
- А согласятся ли крановщики? - спросил Калугин.
- Сейчас узнаю, - сказал Гаранин и ушел на кран, вмерзший у берега.
Старики наши заспорили о технических средствах подъема.
Вернулся Гаранин и сообщил: "Прилипли, как мухи, к огню. Объяснил им зашевелились. Только тросов прочных у них нет. А ну, Ганька, Костя, айда на склад!"
- И я с вами, - сказал Степанов.
- На кой дьявол троса вам? - спросила у нас фигура, закутанная, как стог сена. - Чего поднимать-то?
- Затонувший трамвай!
Из вороха платков высунулись усы старого кладовщика.
- Это не тот ли, на котором Мироныч ходил? Знаю, знаю, - закивали усы. - Ну, берите.
Мы потащили тросы на кран.
- Накладную не забудь! - крикнул он вдогонку.
В потемневшем воздухе на торосистое полотно Невы падал белый пух, припудривая фигуры людей. Майна (прорубь - на языке речников) салилась покрывалась тонкой корочкой льда. Калугин расчищал "сало", ловко действуя багром. Майна дымилась, и казалось, что Калугин длинной спичкой поджигает воду.
- Приступим? - спросил Гаранин, уже одетый в костюм.
- Надевай шлем!
На ночное небо медленно выкатилась луна и облила нас желтым масляным светом. Сквозь прозрачный хрусталь воды я увидел уходящего в глубину Гаранина. Рядом со мной, со шлангом в руках, застыл Лошкарев. Федя Степанов уговорил своих товарищей помочь нам. Работали все непрерывно, сменяя друг друга.
Буксир разломал лед. Кран хрипло развел пары. Скрипя железными тросами, на рассвете он поднял из воды речной трамвай и, развернув стрелу, вынес его на мерзлый берег Невы.
* * *
Я стою на семнадцатиметровой глубине, под Кировским мостом. В 1942 году сюда, через железные фермы, влетела большая вражеская бомба. У каменного быка разошлись швы и отбило местами гранит. Я его конопачу.
Вода здесь желтая от песка. Но я отчетливо различаю шпаклевку. Рука моя затянута в манжет. Кожа вся посинела от холода, но это уже крепкая рука 1944 года.
Из шлема выпрыгивают серебристые пузырьки, их белое сверкание, как дуга фонариков, окружает меня своим слабым светом. Сюда не проникают солнечные лучи.
Течение тут стремительное. Трудно устоять. Камешки, как ветром, сдувает со дна, и они в постоянном движении. Темная вода, вбегая между быков, пружинит в пролетах моста. Стараюсь не высовываться - ударит.
Бык кажется мне снизу непомерно огромным и неизмеримо сильным. Вместе с подобными ему он держит на плечах своих красивейший в Ленинграде, массивный, весь будто отлитый из чугуна мост с высокими матовыми фонарями. Он начало и конец прямого, как стрела, Кировского проспекта.
Недалеко отсюда по грунту Невы мы недавно уложили толстый, закутанный в свинцовую оболочку кабель. По нему побежал к станкам заводов, на этажи восстановленных домов, в уличные фонари и в новые нити трамвайных проводов электрический ток.
Вдруг шлем мой начинает звенеть и колебаться. Дно гудит и дрожит. По мосту идет переполненный трамвай. На подножке его гроздьями висят пассажиры. Знаю это не глядя - по звуку. С каждым днем громче гудит шлем и сильней сотрясается дно. Это город наполняется людьми, жизнью, движением, трудом. А давно ли мост был совсем безлюден и нем?
Сверху дергают за сигнальный конец. Значит, пришла смена. И тут только чувствую усталость.
Иду вверх. Желтая вода сменяется серебряной. Впереди меня бегут воздушные пузырьки, с каждым шагом делаясь все болтливее и резвее. Грузы сильнее и сильнее давят на плечи. По шлему уже барабанит волна, гнет меня набок.
Нева огибает гранит и ускоряет свой бег.
В прозрачное стекло иллюминатора вижу сизо-голубую от ветра поверхность. Седой дым курится над пустынной Невой. Ни одного суденышка!
Вдоль просторной солнечной набережной бегут легковые машины. Пешеходы топчут длинные тени спокойно-величавой решетки Летнего сада.
За легким узором ее кованых прутьев рябит, слетая на мрамор, ломкий лапчатый лист золотой, немного дождливой осени этого года.