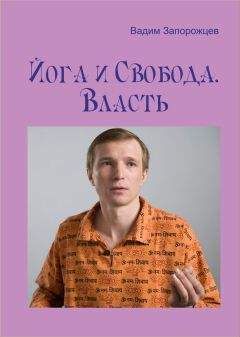- Что вам угодно? - спросил я, сухо.
- Я вас прошу меня выслушать, - произнесла она дрожащими губами.
В бюро, куда я дверь оставил открытой, зазвонил телефон.
- Алло?
Присяжный стряпчий, к которому надо было ехать, просил его извинить. Дело откладывалось на три дня.
Надев пальто, я снова вышел в приемную, сделал Зое знак за мной следовать и, усадив ее в автомобиль, сказал шоферу ехать в парк, к озерам.
- В чем дело? - спросил я Зою.
Покачав отрицательно головой она указала глазами на спину шофера. Губы ее были неподвижны, никакой гримасы на лице не было, но по щекам текли слезы.
26.
У второго озера мы вышли из автомобиля и пошли рядом по пустой, в этот час, аллее. Дождь перестал, но с деревьев падали блестевшие как серебро капли и все кругом: кусты, трава, песок было мокро. Пахло землей, мохом и гнилыми листьями. Совсем низко бежали рваные облака, сквозь которые не пробивалось ни одного солнечного луча. Зоя шла, как автомат, ничего не замечая.
- В моем распоряжении не слишком много времени, - проговорил я, - так что если вы хотите мне что-нибудь сказать, не откладывайте.
{108} - Я так много знаю, - ответила она, - что не знаю, с чего начать.
Она остановилась. Я повернулся к ней, чтобы лучше ее видеть. Взяв тогда меня обеими руками за локти, она придвинула лицо свое к моему так близко, что я, подумав, что она хочет меня поцеловать, отшатнулся. Тогда, тихонько, мягко, может быть даже с нежностью, она произнесла:
- Теперь поздно. Но до самого почти конца я надеялась, что вы помешаете.
- Помешаю чему?
- Свадьбе. Он уже давно это затеял, но я отговаривалась тем, что спешить некуда, что мы успеем. А сама ждала чтобы что-нибудь случилось.
- Но вы могли не соглашаться. Как мог он вас принудить?
- Я не могла не согласиться. Он меня себе подчинил.
Еще ближе ко мне придвинувшись, почти прижавшись, Зоя проговорила:
- Если бы я решилась бежать, то как могла бы я вас видеть?
Мне пришлось бы скрыться от всех и, значит, и от вас.
Я молчал. Приняв, вероятно, это молчание за согласие слушать дальше, она продолжала с порывистостью:
- Я думала, что вы, может быть, захотите. Мужчины так делают, я знаю. Я пришла к вам ночью, когда, вы были один, и позвонила три раза. Но наверно вы спали очень крепко, не слышали, не открыли и я ушла.
Мое раздражение все возрастало и, между тем, я ничего не делал, чтобы прекратить это объяснение.
- Мне иногда казалось, что я вам нравлюсь, - почти шептала она, - и мне так мало было нужно. Я заранее была согласна на все, условия, на все требования. Никто никогда ничего не узнал бы. Я бы жила взаперти, мне довольно было бы видеть вас раз в месяц, на час... Я была бы рада быть вашим секретом, гордилась бы этим.
- У вас не было ни малейшего шанса, - вставил я, стараясь придать голосу равнодушный оттенок. На самом деле я был взволнован.
- Теперь я это знаю.
- И чего же вы теперь хотите?
- Хочу, чтобы вы от меня о нем все узнали, а не от него самого... или от кого-нибудь еще. Мне не было четырнадцати лет, когда все случилось.
- Насильно? - спросил я, подавляя отвращение.
- Конечно насильно. Не можете же вы думать, что тринадцати лет отроду я могла его любить?
- Почему же...
- Почему я от него не ушла? Куда уйти тринадцатилетней {109} девочке? Даже на тротуар нельзя... И кому я могла про такие вещи рассказать? Матери? Если бы вы знали... Кроме того я была ему подчинена, я вам сказала. Он может себе подчинять. Он меня держал как держат собаку, на привязи.
- Но потом, когда вы подросли?
- Потом было поздно. Во мне что-то надломилось, или потухло, я не знаю. В душе что-то оборвалось. Я примирилась, или привыкла... Я ему служила. Да, именно служила, это как раз подходящее слово. И ничего не ждала. До тех пор, как он не привел меня к вам. С этой поры я стала ждать. Я про вас думала. Я хотела быть к вам ближе. Я на что-то надеялась.
Мне пришло в голову слово "напрасно", которого я, почему-то, не произнес. Но она догадалась.
- Я знаю, что это было напрасно, - сказала она. - Что все было напрасно, что напрасно я, иной раз, спрашивала себя: не рассказать ли вам все, чтобы вы вмешались? Даже если бы тогда ночью вы мне открыли и я к вам вошла, вы все равно свадьбы не расстроили бы. Все было напрасно. Ни на что вы не согласились бы.
- Не согласился бы. Но теперь-то, теперь что вам от меня нужно? Зачем теперь вы мне про все это рассказываете?
- Чтобы вы знали, - прошептала она и остановилась, точно самое себя спрашивая: можно ли выпустить на волю колдовское слово?
- Чтобы я знал что?
- Чтобы вы все про него знали. Чтобы вы знали, какой он. Мне-то он рассказал... все рассказал...
- Что он вам рассказал?
- Все.
Я молчал. Я был совсем подавлен.
- Я же вам объяснила, - продолжала она, - что я так много знаю, что не вижу, где начало. О себе первой я заговорила, потому, что так проще.
И, обняв меня руками, глядя в глаза, прошептала:
- Я вас люблю.
Я отстранил ее руки. Ничего не говоря я, мысленно, тщетно искал выхода из нелепого положения. К тому же мне было ее жаль. Через несколько секунд, снова меня обняв, Зоя сказала:
- До безумия. Для вас я готова на все, на какую угодно жертву. Чтобы вам было лучше, я на все, все, все готова...
Я старался развести ее руки, но она сопротивлялась, смотрела мне в глаза, почти дрожала.
- На все, - шептала она, - даже на молчание.
- Идемте. Уже поздно. Я спешу.
Она отпрянула. Кажется, в ее ресницах заблестели слезы. Мы двинулись к автомобилю. Зоя шагала словно автомат.
- Но почему же, - спросил я, - вы надеялись до свадьбы, а теперь больше не надеетесь?
{110} - Мадемуазель Малинова, - ответила она, без малейшего колебания, - пусть даже у нее большое прошлое, все же мадемуазель Малинова, и свободна. Но мадам Аллот?..
Разубеждать ее я не стал.
В автомобиле, совершенно собой овладев, ровным и спокойным голосом, говоря так, как говорят о делах, поведала она мне, что три дня тому назад, сходя с лестницы, Аллот упал и сломал берцовую кость у самого верха ее. Я спросил, поместили ли его в госпиталь, и узнал, что нет. Ему сделали гипсовую повязку и он остался дома, где Зоя сама за ним ухаживала.
- Это надолго, - пояснила она, - в его возрасте кости срастаются с трудом. Хорошо еще если он не останется калекой.
Когда мы остановились у ее подъезда, она, перед тем как выйти, повернулась ко мне, чтобы, вопреки привычке, попрощаться, и длительно на меня посмотрела.
- Это ужас как я его люблю, - услыхал я.
Губы ее шевелились, как раз так же, как они шевелились, когда, выходя из бюро, она не то улыбалась, не то шептала. Тогда я не понимал. Теперь я знал.
Признаюсь, что предпочел бы остаться в неведении.
Но вот уже, на смену этим мыслям, спешили другие: Мари должна была беспокоиться, так как к завтраку я опаздывал. Как было здоровье Доротеи? Не расхворалась ли Мари-Женевьев? Спокойная, нарядная столовая, белая скатерть, серебро, хрусталь, цветы в вазах!
Когда я открыл дверь и Мари выпустила из рук "наши минуты", я прежде всего сказал:
- Часовщик придет завтра вечером.
27.
После завтрака этого дня я был очень занят, но вернуться мне удалось все же довольно рано. Доротее было лучше, жар понизился и она спокойно играла в своей кровати с плюшевым медведем и бархатной белкой. Мы рано легли. Засыпая, я с внутренним удовлетворением думал, что все благополучно. Тень, оставленная разговором с Зоей, рассеялась и можно было допустить, что новых попыток встретиться Зоя не предпримет.
Ночью, проснувшись, я прислушался к легкому дыханию Мари. Я упрекнул себя в том, что ничего ей не сказал насчет нового наследства, и решил непременно исправить этот пробел завтра с утра. И вдруг меня охватили страх и отвращение. Вытянувшись, сжав кулаки, я замер в ожидании: не то шума, не то шагов, не то голоса. И мысль о наследстве, и постоянные, привычные мысли о делах, и, тоже постоянная, радостная забота о семье, - все это исчезло. Однако никакого шума, никаких шагов, никакого голоса не раздалось. Со всех сторон - {110} немного как подступают воды во время наводнений - надвинулся тяжкий, черный сон.
Но на утро я был бодр и свеж. Мари уже была на ногах и вошла спальню, когда я начал вставать. Она сказала, что Доротее лучше, что жар небольшой, что ее кормит нерс, и что Мари-Женевьев одевается и будет пить чай с нами. В окна столовой, куда я прошел поели ванны, светило бледное осеннее солнце. Мари поправила цветы в вазах и, посмотрев на старинные часы, спросила меня:
- Они сегодня вечером должны снова начать тикать?
- Часовщик будет сегодня, но починит ли он часы сразу, сказать не могу.
Доктор пришел к девяти, осмотрел девочку, нашел большое улучшение и сказал, что все теперь должно скоро пройти, и что он забежит послезавтра.
Обычный день вступал в свои права обычной поступью. В окно я видел, как подали мой автомобиль. Поцеловав Мари, я отправился на фабрику.