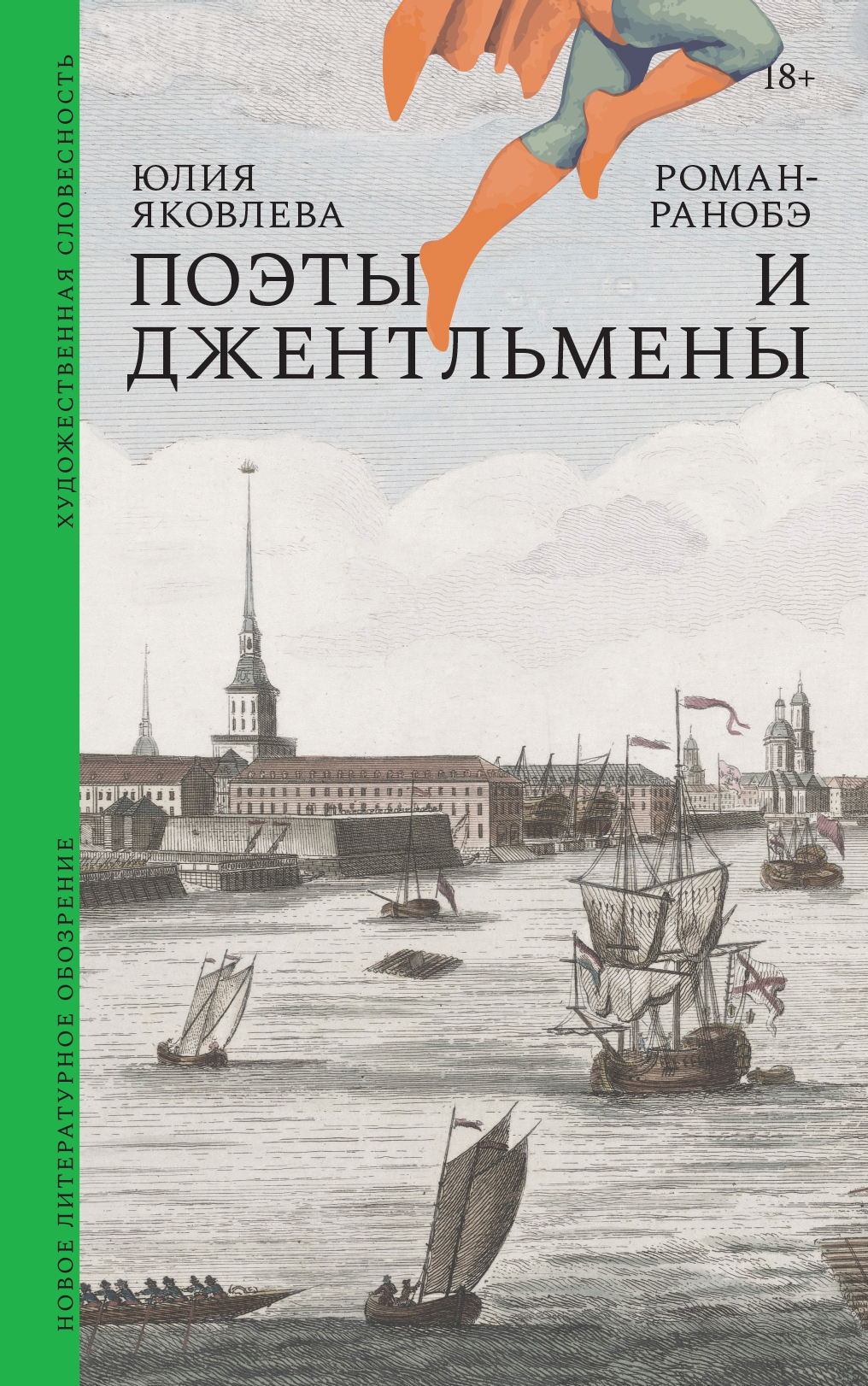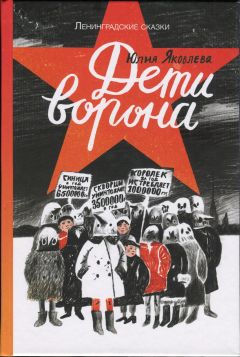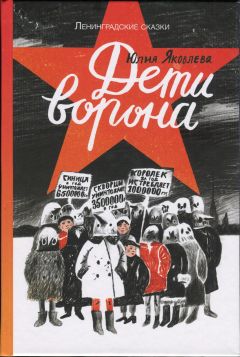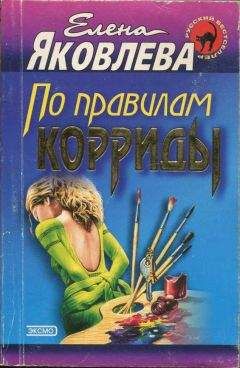за толстый шнур с толстой кистью на конце. С ревом понеслась, заклокотала в фаянсовой вазе вода.
– Иду! Ну же! Иду! – Он выскочил в длинный полутемный коридор, столь типичный для петербургской квартиры. Раздражение его закипало. – По нужде уже нельзя отлучиться? Что ж, теперь я во всем должен давать вам отчет?
У приоткрытой двери в ванную он остановился, замер. Задержал дыхание. В дверном проеме, как в раме, увидел Гоголя: тот стоял на коленях, выставив вверх туго обтянутый штанами зад, и заглядывал ванне между бронзовыми кривыми ножками. Бакенбарды касались кафеля. Вдруг спина Гоголя замерла: почувствовала взгляд. Гоголь обернулся нервно, ударился теменем о край ванны, издав гулкий чугунный звук, схватился ладонью.
– Ах, это всего лишь вы, – фальшиво обрадовался.
«А кого вы ожидали, Николай Васильевич? Кого вы там искали?» – хотелось спросить. Но Лермонтову стало не по себе от возможного ответа. И еще – не хотелось признавать: неужели я стал таким же, как этот Чехов? Прилипчивый, нервный, докучный, над которым он сам совсем недавно насмехался. Неужто мы все дуреем потихоньку в этой странной квартире?
Он сказал просто:
– Это всего лишь я.
И закрыл дверь ванной.
***
– Тоже мне… Фат. Провинциальный демон, – бормотал Чехов. Сорвал пенсне, вырвал из кармана платок, принялся тереть стеклышки. Но чувствовал, что игла, вонзенная «провинциальным демоном», не только попала в цель, а засела и от нее по крови расходится несмертельный, но едкий яд.
Я завидую? Я ненавижу? Люблю – да. А правда ли люблю?
Он потряс головой, точно желая вытряхнуть колючий сор этих мыслей.
Но одна непрошеная опять просунула ногу в дверь: в самом деле, а где Гоголь?
Он пнул по этой ноге, захлопнул дверь: нет, нет и нет. «Да нет мне никакого дела до чужих секретов». Не больно-то интересно!
– Какая чушь! Всё! От первого до последнего слова.
Но самовнушение не помогло. Желание знать свербело, как похоть. Он сдался ему. Возвысил голос:
– Николай Васильевич! Где вы?
Прислушался, перестав тереть стекла.
– Вы дома?
Но никакого Николая Васильевича не было.
***
Гоголь бежал. Шляпа была зажата под мышкой – иначе бы слетела. Бакенбарды распушились от невского ветра, усиленного его собственной иноходью.
– Пушкин… – бормотал он. – Пушкин… ха!
Другой рукой он прижимал к груди бумажный сверток. Но прижимал не слишком: он не хотел раздавить нежные красные плоды, поломать хрупкую солому макарон. Карманы его распирали перламутровые головки чеснока и рыжие луковые.
Он свернул на Галерную. Ветер сразу стих. Но бакенбарды все равно топорщились, точно их поднимало телесное электричество. Нос осторожно пощупал воздух, точно так же, как глаза всматриваются. Гоголь припустил дальше. У нужной парадной остановился. Она была заперта. Он обежал бывший британский посольский особняк кругом. Все так же бормоча:
– «Ревизор», значит, подсказал Пушкин… «Мертвые души» – тоже Пушкин… «Нос» публиковал – Пушкин. Лавочнику платить – Пушкин… Придумать план – Пушкин… Все, что есть лучшего на свете, все достается камер-юнкерам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою – срывает у тебя камер-юнкер! Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет… Чтобы я встал перед ним? – никогда!
Однако ж у черного хода был вынужден остановиться. Тронул дверную ручку. Дверь поддалась.
– Я не он! Я вам всем докажу… Покажу…
Он взлетел по лестнице стремглав. В отличие от обычных петербургских, сполна оправдывающих название «черная» (а некоторые оправдывали его с такой лихвой, что к горлу подступала рвота и нос, этот драгоценный, великолепный орган, приходилось зажимать двумя пальцами), эта была чиста, пахла паутиной, пылью, запустением. Но не только, и в этом «не только» было столько всего, что… ай! ай! ай! ничего, ничего… молчание.
Он локтем вдавил медную пуговку звонка.
– Who is that? – раздалось за дверью.
Ай, ай, ай! Какой голос! Канарейка, право, канарейка!
Он не ответил – он знал, что отвечать не требуется, так как она… так как в двери была замочная скважина, через нее проскользнул завиток запаха, поднялся, нежно клубясь, достиг ее ноздрей – и все ей сказал. Дверь тут же распахнулась. Гоголь шагнул внутрь, поскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и даже не выронил ни макарон, ни помидоров; шляпу, правда, выронил.
– Tu! Che sorpresa… – Нос в веснушках потупился, а восторженный румянец сказал то, что не сказали слова: – Но… как вы меня нашли?
– Сударыня, как я мог вас НЕ найти? – Нос Гоголя молодецки раздул ноздри и потянул ее запах, как тянут за уголок платок.
Святые, какой платок! Тончайший, батистовый – амбра, совершенная амбра!
***
Радклиф показала им, как это делается.
Намотала на вилку. Сунула в рот. Округлила на вдохе глаза. Хлюпнув, втянула свисавшие изо рта щупальца спагетти. Мелкие красные брызги соуса так и полетели во все стороны. После чего промокнула рот салфеткой.
Две ее подруги остались сидеть, остолбенев: в одной руке вилка, в другой – ложка, перед собой – дымящаяся тарелка. Нетронутая.
«Боюсь, я не совсем уверена, дорогая Анна, что это блюдо идеально подходит для приема гостей. Я бы даже осторожно предположила, что наилучшим эстетическим решением было бы вкушать его в одиночестве», – подумала одна.
«Дорогая Анна похожа на спрута. Гм. С окровавленной добычей», – думала другая. Ничем из этого нельзя было поделиться вслух, понимала каждая, поэтому молчание затянулось.
– Скажите же что-нибудь, – весело взмолилась Радклиф. – Я убила на это целый день.
Остин бросила осторожный взгляд на Шелли.
– Вы выбрали для ужина довольно неожиданное блюдо.
Радклиф улыбнулась.
– Иногда нужно быть спонтанной, – выпорхнул смешок. Затем она опять принялась энергически наматывать спагетти на вилку, как показывал господин Гоголь.
Обе воззрились на нее с изумлением. А потом друг на друга: что это с ней?
Радклиф ощутила превосходство. Ничто так не разбивает союз, как тайна, о которой знает только один, а другие нет.
Джейн кашлянула в салфетку, отняла ее от губ:
– Очень хорошо. Итак. Я попробовала взглянуть на проблему под другим углом.
…И ничто, как тайна, так не объединяет тех, кто в нее посвящен. Глаза Анны затуманились. Странно было думать, что теперь этот русский господин… Ах, в его идее чудовища, которое видит то, что не видит никто, что-то есть; о нет, она против всяких там сверхъестественных вещей, в книгах они всегда только мешают, но дело в том, что в той его истории можно было истолковать события так, что бедному герою все это только привиделось со страху, спьяну, с…
– Анна! – взвизгнула Шелли, голос ее наконец пробился сквозь толщу мыслей, Радклиф моргнула, точно только что проснулась.
– Что?
– Мы выслушали Джейн. А что думаете вы?
– О чем?
Радклиф растерянно обернулась на Шелли. Но та опустила в тарелку и взгляд, и