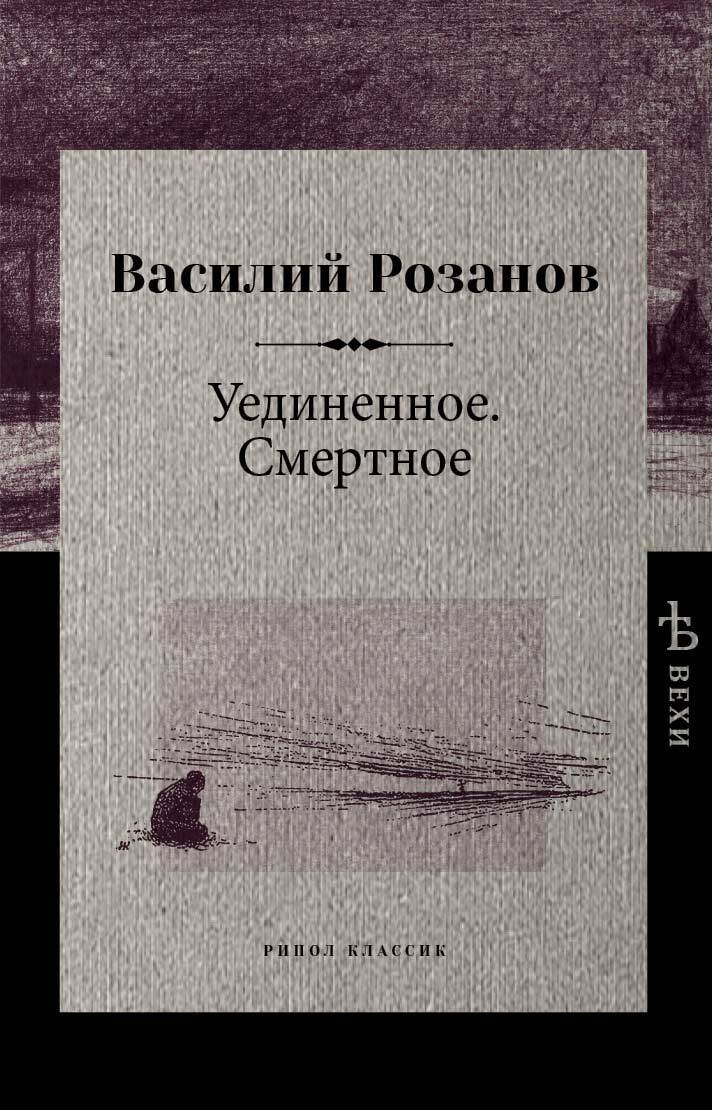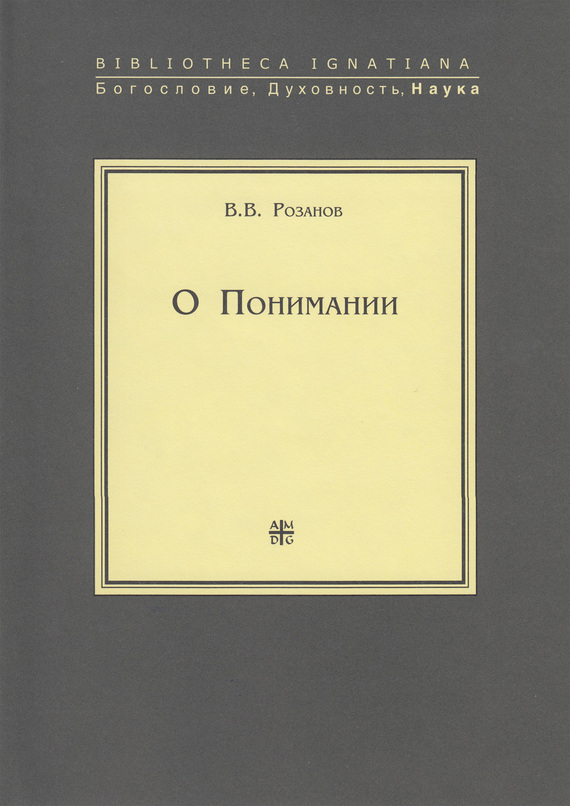Вот я такой «мальчик с неутертым носом», – «все открывший». Это мое
положение, но не я. От этого я считаю себя, что «в Боге»… У меня есть серьезная уверенность: – Бог
для того-то и подвел меня (точно взяв за руку) встретиться с «другом»,
чтобы я безмерно наивным и добрым взглядом
увидел «море зла и гибели», вообще
сокрытое «от премудрых земли», о чем не догадывались никогда деревянные попы, да и «святые» их категории, – не догадывался никто, считая все за «эмпирию», «случай» и «бывающее», тогда как это суть, душа и
от самого источника. Слушайте, человеки, чтó для нас самое убедительное? Нечто, чтó мы сами увидели, узнали, ущупали, унюхали. Ну, словом:
знаю – и баста. Так для жулика – самое ясное, что он может отпереть всякий замок отверткою; для финансиста – что не ошибется в бирже; для Маркса – что рабочим надо дать могущество; и прочее. Всякий человек живет немногими знаниями, которые суть плод его жизни, именно
его; опыта, страдания, нюха и зрения. Для меня (ведь
внутренность же свою я знаю) было ясно в Е., 1886–1891 гг., что я – погибал, что я – не нужен, что я, наконец, – озлоблен (вот тогда «демонизм» был), что я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое «О понимании», над которым все смеялись…
Тогда я жил оставленный, брошенный – без моей вины. Обошел человек и сделал вред.
Вдруг я встречаю, при умирании третьего (товарищ), слезы… Я удивился… «Чтó такое слезы?» «Я никогда не плачу». «Не понимаю, не чувствую».
Я весь задеревенел в своей злобе и оставленности и мелких «картишках».
Плач, – у гроба третьего – был для меня чтó яблоко для Ньютона. «Так вот, можно жалеть, плакать»… Удивленный, пораженный, я стал вникать, вслушиваться, смотреть.
Тá же судьба, тá же оставленность. Но реагирующая на зло плачем в себе, без осуждения, без недоумения, без всякой злобы, без догадки, что есть в мире злоба, вот «демонизм», вот «бесовщина».
Я подал руку, – долго не принимаемую, по неуверенности. Ведь я ходил в резиновых глубоких галошах в июне месяце, и вообще был «чучело». Да и «невозможно» было (администрация и проч.). Но колебания быстро прошли: случилось (от нервности) несчастие (оказавшееся через несколько месяцев мнимым), – которое, так сказать, «резиновые калоши» простирало до преисподней и делало меня «совершенно невозможным». Но «слезы по третьем» решили все: именно когда казалось все «разрушенным и погибшим», и до скончания веков, когда подойти ко мне значило погибнуть самому (особенная личная тайна), и я обо всем этом честно рассказал, – рука протянулась со словами «колебания кончились». Дальше, больше, годы, вдруг бороды лопатой говорят:
– Стоп!
Не обращаю внимания, но за ними и высокопросвещенные люди, как С. А. Рачинский, говорят:
– Нельзя.
«Чтó такое»?! Будь я «в панталонах мальчик», я ничего особенного бы не понял, не постигнул. Нужно было бесконечно наивной природе (я) столкнуться с фактом, чтобы понять… что «ведь это искусственное дело падать вниз яблоку, оторвавшемуся от ветки: натурально оно должно бы оставаться в воздухе; а уж если лететь, то почему же не вверх, а вниз: значит – земля притягивает». Я понял (и первый я), что не в «лопатах» дело, которым «все равно», и не в Рачинском, который благочестив, ко мне добр, а в другом, от чего Рачинский не хотел отстать, а «лопаты» приставлены «к этому забору». Кому-то далекому-далекому, чему-то великому-великому, нужно…
– Чтó нужно?
«– Играйте вы по-прежнему в преферанс, – ну, и погибнете, но мало ли же вообще людей гибнет. И этот „друг“ ваш (с скрытною уже тогда болезнью)… тоже погибнет… Но ведь что же?.. Ведь это вообще есть, бывает; – бывает смерть и болезнь, и разврат, и пустота жизни или лица… Ну, и что же особенного тут, чему же волноваться…»
– Да нет, не в этом дело, а что я был злобен, остервенен, забыл Бога, людей мне было не нужно…А теперь и совсем ваш же с образами, лампадкой, христианством, Христом, с Церковью… Я – ваш.
«– Именно – не „наш“, а такого нам вовсе не нужно, поскольку вы вдвоем, соединены. И будете „наши“ – лишь разъединясь».
– «Разъединясь»?.. Значит – опять в злобу, в атеизм, вред людям…
«– Это уже наше дело, мы все берем на себя. О злобе вашей помолимся, и атеизм – замолим, и вообще все обойдется, потихоньку и не колко. Ну кто не вредит людям, и разве все так особенно „веруют“. А обходится. Будет сохранен порядок: а если вы погибнете в разделении, то ведь людей вообще всяких и постоянно очень много гибнет. Ничего нового и даже, извините, ничего интересного».
Конечно, при «упрямстве» можно было бы «преломить», и вышла бы грубость, но никакого открытия. Но я был именно кроток, – как и наивность или «натуральность» (дикий человек) простиралась до того, что я годы ничего не замечал… Как годы же потом шло мое «ньютоновское открытие», что «яблоко очень просто падает на землю» от того-то.
Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.
Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что «выживет». И вот, тихо-тихо. Все прекрасно. Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:
«…вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то „так“ и „чтó следует“, придя „вдвоем“ как „отец и дочка“. Вы – „смутьяны“, от вас „смута“ именно от того, что вы „отец и дочка“ и вот так распоясались и „смело вдвоем“».
И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою… Зажались от нас… Ушли в свое «правильное», когда мы были «неправильные». Ушли, отчуждились… и как будто указали, или сказали: «Здесь – не ваше место, а – других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно».
Но, повторяю, жулик знает, чем «отвертывать замки», а «кто молится» и счастлив – тоже знает, что он – молится именно, и – именно счастлив; что у него «хорошо на душе»; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в