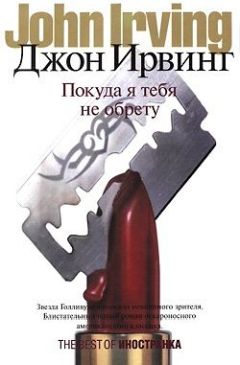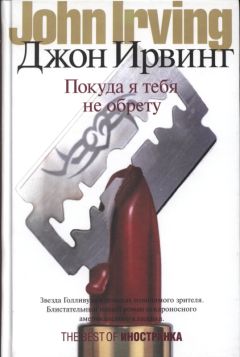слова не знал по-французски, оттого спасовал перед названием вещи Дюпре «Trois préludes et fugues pour orgue» [28]; с Мессианом, который отрядил на папино тело свою «Dieu parmi nous» (в комплекте с римской цифрой IX); вышло получше, – кажется, это значит что-то вроде «Бог среди нас».
– У меня есть сын! – голосил отец на весь Кильхберг, прыгая на кровати. – Спасибо тебе, Господи, – у меня есть сын!
– Пап, осторожнее!
– Папкин! – поправил Уильям Джека.
– Папкин, осторожнее, пожалуйста!
Этак голова заболит, расшифровывать татуировки на теле прыгающего человека. Джек пытался найти работу Сами Сало, которую тот якобы выполнил у Уильяма на заднице, а равно работу «мясника» Тронда Хальворсена, который Уильяма заразил, но отчаялся – им еще в ресторан идти, лучше, чтобы его не тошнило.
– Джек, ты знаешь, что значит слово «токката»?
– Нет, папкин, не знаю.
– Оно буквально значит «прикосновение», а от музыканта требуется не жать на клавиши, а ударять по ним пальцами, словно молоточком, – объяснил отец, не переставая прыгать. Ни намека на одышку. Психиатрической пользы от джоггинга в Кильхберге, подумал Джек, нет никакой, что бы там ни говорил доктор Хорват, зато физическая форма пациента, несомненно, улучшается.
«Мелодия для трубы» Стэнли и правда располагалась у Уильяма над правым легким – своего рода хвастовство (чтобы играть на трубе, нужны хорошие легкие). И конечно, знаменитые слова Алена, по-французски и по-английски, сверкали у отца на ягодицах, – впрочем, прочесть толком их Джеку не удалось, Уильям не застывал ни на секунду.
– Папкин, нам пора одеваться на ужин!
– Если я остановлюсь, мой дорогой малыш, мне станет холодно. А это нам ни к чему! – закричал отец.
Профессор Риттер и его команда, несомненно, подслушивали за дверью и, судя по всему, узнали эти слова (не в первый раз). В дверь резко постучали, наверное, это доктор Хорват.
– Уильям, кажется, нам стоит войти! – раздался голос профессора Риттера, интонация решительно не вопросительная.
– Vielleicht! («Может быть!») – заорал в ответ Уильям и спрыгнул с кровати.
Повернувшись лицом к Джеку, отец встал на четвереньки и задрал задницу вверх – с тем, чтобы, войдя, профессор Риттер и его команда могли прочесть на ней, что «разум бессилен идти вперед, лишь вера, как прежде, несется ввысь».
– Уильям, должен признаться, я немного разочарован, – сказал профессор Риттер.
– Всего лишь немного? – спросил Джеков отец, выпрямился и повернулся к вошедшим лицом.
– Уильям, это неподходящая одежда для «Кроненхалле»! – погрозил ему пальцем доктор Хорват.
– Я не собираюсь ужинать с голым человеком – по крайней мере, на людях! – провозгласила доктор фон Pop и тут же пожалела о своих словах, как понял Джек. – Es tut mir leid, – добавила она немедленно.
Коллеги и профессор Риттер в ужасе посмотрели на нее.
– Я же сказала, что прошу прощения! – сказала она начальственным тоном.
– Кажется, я слышал слово «голый», – сказал Уильям, хитро улыбаясь Джеку. – И они еще смеют попрекать меня «пусковыми механизмами»!
– Я уже извинилась, Уильям, – продолжила доктор фон Pop.
– А, ерунда, – не сказал, а сплюнул в раздражении Уильям; Джек заметил, как отец вздрогнул – первый знак, что ему холодно. – Просто я столько раз говорил вам, что я не голый! Вы прекрасно знаете, что я воспринимаю это иначе!
– Мы знаем, – сказал доктор Бергер, – вы говорили нам много раз.
– Мы-то знаем, а Джек еще нет, – заметил профессор Риттер.
Доктор фон Pop обреченно вздохнула; если бы у нее в руках был карандаш, она бы, несомненно, принялась его вертеть.
– Татуировки, Джек, суть подлинная одежда вашего отца, – сказала она, подошла к Уильяму, взяла его за плечи, провела руками до запястий, взяла в руки его ладони. – Ему холодно, потому что многие его любимые композиторы умерли. Ведь большинство из них давно в могиле, не так ли, Уильям?
– Именно, вот я и трясусь, словно от могильного холода, – кивнул он, дрожа как осиновый лист.
– А что у нас тут, и тут, и вот тут, и вообще везде? – продолжала доктор фон Pop, тыча пальцем то в одну татуировку, то в другую. – Одни сплошные славословия Господу, гимны да плачи. Для вас, Уильям, существует только две вещи – или экстатическое восхищение, или душераздирающая скорбь. Вы благодарите Господа, Уильям, но все остальное и всех остальных вы лишь оплакиваете. Ну как у меня, пока получается?
Это был вопрос отцу. Джек понял, что доктору фон Pop удалось его успокоить, но дрожь никак не прекращалась. Доктор Хорват массировал ему плечи, чтобы согреть, и одновременно пытался надеть через голову футболку.
– Очень хорошо, – искренне ответил доктору фон Pop отец; видимо, для сарказма ему слишком холодно, снова застучали зубы.
– Ваше тело не обнажено, Уильям. Оно укутано в восхитительные одежды – в гимны, в ликование, в страсть вечной любви к Господу и одновременно в вечную, неизбывную скорбь, – продолжила доктор фон Pop.
Доктор Хорват одевал Уильяма, как мать одевает малолетнего ребенка. Джек ясно видел – папа полностью подчинился своим эскулапам, доктору Хорвату с его одеждой, но более всего доктору фон Pop и ее проповеди, которую, конечно, Уильям сам произносил ей неоднократно.
– Ваша скорбь служит вам одеждой, и вам больше ничего не нужно. Ваше сердце, – продолжила доктор фон Pop, – ваше разбитое сердце исполнено благодарности – оно лишь не способно больше согревать вас. А музыка – что же, иные из ваших нот торжествуют, ликуют; но куда больше других, тех, что скорбят, разве не так, Уильям? Вы куда больше дорожите печальной музыкой, печальной, как похоронный марш, печальной, как плач по покойному, – боже мой, сколько раз я от вас это слышала!
– «Боже мой, сколько раз» – здесь я слышу сарказм, Рут, – сказал отец. – Тут вы споткнулись, а до того все шло отлично.
Доктор фон Pop снова тяжело вздохнула.
– Уильям, я просто не хочу, чтобы мы опоздали на ужин. Поэтому оглашаю