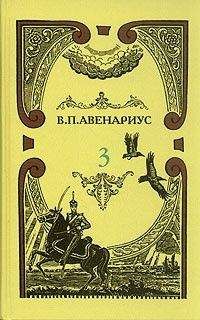— Поднималась верхом. До этого места доехала счастливо, но тут — Бог ее знает! — голова ли у нее закружилась или так, со страху — только возьми и дерни за повод; лошадь-то сдуру и тяп в пропасть. Вскрикнула дама, взревело животное, взвилась пыль столбом — и поминай, как звали! А добрый конь был, франков в восемьсот. Индо за живое схватило.
Наденька слушала с притаенным дыханием.
— И хороша была она? — спросил Ластов.
— Я вам говорю: в восемьсот франков…
— Да не лошадь! Француженка.
— Да, красивая и совсем молодая, вот как барышня… Невольные мурашки пробежали по Наденьке.
— Ах, Лев Ильич, охота вам слушать такие страсти.
— И такая веселая, — продолжал фюрер, — шутила все со своим муженьком — я не сказал еще, что она была с мужем, — сидела, так ловко избоченясь… А потом, как стали доставать с глетчера, так и человека-то в ней распознать нельзя было: ни головы, ни рук, ни ног — словно котлета или бифштекс какой, один ком сбитого мяса.
— Ах, Боже! — воскликнула Наденька. — Замолчите, пожалуйста.
Легкой серной побежала она по тропинке, шириною не более аршина и неогороженной к пропасти никакими перилами. Она, казалось, уже забыла, что ее может постигнуть одна участь с несчастной француженкой, что каждый неверный шаг ее связан с опасностью жизни. Какая-то лихорадочная веселость овладела всем ее существом.
И паладина ее подмывало. Он несколько раз собирался о чем-то заговорить с нею и не решался.
— Надежда Николаевна, — начал он было раз.
— Что-с?
Он не отвечал.
— Что же вы?
— Я ничего… я так…
— Ха, ха! Зачем же вы меня звали? Несколько минут спустя он опять назвал ее по имени.
Она весело обернулась.
— Вы это опять "ничего, так"?
— Не правда ли, Надежда Николаевна, только в холостой жизни есть поэзия?
— Очень может быть. А что?
— Да девицы еще до длинных платьев начинают мечтать о замужестве, а так как вы уже в длинном платье…
— То вы опасаетесь, что я в каждом неженатом мужчине вижу жениха?
— Да почти что так. Я хочу доказать вам, что мы с вами можем почитать себя счастливыми, что не вкусили еще семейной прозы.
Наденька принужденно расхохоталась.
— Sir! — подозвала она к себе молодого англичанина. Тот обернулся. — Знаете, что говорит мне этот барин?
— Ну-с?
— Он просит извинения, что не сватается за мной.
Едва произнесла она эти слова, как уже раскаялась в них. Ластов видел сзади, как шея и уши ее загорелись огненным румянцем. Но, не желая показать своего смущенья, она развязно обратилась к поэту:
— Заметили вы, как бездонно-глубокомысленно уставился на меня этот мистер Плумпудинг? Глаза у него так бесцветны, точно все время под лоб закатывает.
— Знаете, что говорят про вас? — отнесся теперь к англичанину Ластов.
— Что, что? Я понял только: "мистер Плумпудинг". Так, это вы меня, сударыня, изволили величать так?
Наденька смешалась пуще прежнего.
— Какой вы нехороший, Лев Ильич! Смотрите, не смейте говорить.
Не обращая уже внимания на англичанина, ожидавшего ответа, Ластов затянул на знакомый голос:
Lebet wohl, Ihr glatten Sahle,
Glatte Herren, glatte Frauen!
Auf die Berge will ich steigen,
Lachend auf Euch niederschauen.
Залы гладкие, прощайте,
Дамы гладкие, мужчины!
В горы я иду, с улыбкой
Поглядеть на вас с вершины.
Проводник, казалось, того только и ждал: звонким голосом залился он тут же:
Bin i nit a lustge Schwizerbue, —
Не резвый ли швейцарский пастушок я?
заканчивая каждый куплет национальным гортанным припевом, известным у туземцев под названием "Jodeln". Молодые люди пытались подражать ему, но с весьма сомнительным успехом: у них выходило только какое-то дикое рычанье.
Скалистая, узкая тропинка поднималась все выше и выше. Жар солнца умерялся порывами свежего горного ветра. Путники начинали уже находить удовольствие в утомительном поднятии, входили так сказать во вкус его. Лицо и угли горят, грудь дышит порывисто и скоро, все тело пышет отрадным зноем. Чувствуешь, как уходишь все далее от земли, все ближе к этой чистой, глубокой лазури, которая, чем ближе, тем чище и глубже… Запестрели первые рододендроны. Наденька с жадностью принялась набирать их.
— Лев Ильич, помогите мне… А там-то, ах, благодать! Достаньте, пожалуйста!
Ластов смотрит по указанному направлению: несколько саженей над их головами, на почти отвесном скате, расцветает целый лес альпийских роз. Он качает головой:
— Опасно: как раз еще шею сломишь.
— Какой же вы после этого паладин? Смотрите… И в два прыжка она уже у цветов и срывает их охапками.
— Наденька! — успел только вскрикнуть испуганный юноша.
В то же мгновение полновесный камень, на который упиралась нога Наденьки, оторвался от скалы; каменные обломки, песок, альпийская палка гимназистки с шумом и треском проскакали через голову молодого человека; не успел он опомниться, как скатилась к нему и сама девушка. Он раскрыл объятья, пошатнулся, но удержался на ногах.
— Вот видите! Чуть не поплатились. Наденька, еще бледная от внезапного испуга, принужденно расхохоталась.
— Все из-за вас. Теперь, в наказанье, дайте мне свою палку; сами можете понести букет.
И в минуту смертельной опасности она не выпустила из рук собранных ею цветов.
Ластов принял букет; но, сообразив, что до возвращения домой розы все-таки завянут, и на обратном пути, без сомнения, будут набраны новые, выбрал лучшую из них, воткнул ее себе в петличку, остальные незаметно швырнул в пропасть. Вскоре, однако, Наденька заметила его недобросовестность.
— Где же мои цветы? — спросила она.
— Вот, — отвечал он, указывая на розан в петличке, — на пылающем сердце в сей единственный сплавились.
— Не умеете вы хранить вверенное вам добро, — сказала она серьезно и, отняв у него цветок, подала его молодому альбионцу: — Нате.
Тот никак не мог понять, откуда такое великодушие, так как в продолжение последнего часа гимназистка не сказала с ним ни слова.
Наконец после трехчасового подъема была достигнута цель странствия — небольшая хижинка над обрывом, от которой непосредственно уже спускаются на глетчер. Здесь был сделан привал; из хижины им вынесли хлеба, молока, масла, сыру и дешевого туземного вина, "Landwein" (другого, несмотря на все требования англичан, не оказалось). После часового отдыха туристы под начальством хозяина хижины, опытного горца, собрались на самый глетчер. Пришлось, не без некоторой опасности, слезать по вертикальной, качающейся лестнице. Но все слезли благополучно. Вот они и на леднике! С силою вонзая в ледяную почву железные острия своих коренастых альпийских палок, они перескакивают с глыбы на глыбу, через трещины, через груды льда и каменьев. При очень крутых спусках главный проводник взятым с собой топором вырубает во льду ступени. Холодом и смертью веет отовсюду: во все стороны расстилается блестящая ледяная равнина, окруженная неприступною стеною снежных гор.
— Давайте в снежки? — предложила Наденька.
Но снегу не оказалось; хотя в последнюю ночь выпал небольшой снежок, но с поверхности он уже успел растаять и покрылся ледяной корою.
— В снежки не приходится, — отвечал Ластов, — но можно в леденцы… — и, отколов острием своей палки несколько осколков от снежно-ледяной глыбы, он сгреб их в охапку и бросил, смеясь, в Наденьку. Та сделала то же, и между ними завязалась оживленная игра "в леденцы".
Один из проводников пригласил их тут осмотреть одну достопримечательность глетчера. Подведя их к широкой расщелине, он попросил их заглянуть туда; из боковой трещины вырывался с неудержимой силой синий столб воды, аршина два в поперечнике, который, разбрасывая тысячу брызгов и глухо бурля, устремлялся потом в котлообразное жерло. Ледяные стенки жерла, выполированные водою, как зеркало, просвечивали чистейшею берлинскою лазурью. Фюрер дал им отведать этой воды, зачерпнув ее во взятую с собою деревянную чарку и присовокупив к этому:
— Echtes Gletscherwasser.
Молодые люди, однако, не нашли никакого различия между "echtes Gletscherwasser" и обыкновенной ключевой водою.
Молодой англичанин, охлажденный небрежением к нему хорошенькой россиянки, занялся между тем Мурреем и, найдя в нем заметку, что по ту сторону ледяного моря, с так называемого Цезенберга, весьма недурной вид на глетчер, склонил своих соотечественников отправиться туда. Наши русские положительно отказались от этой прогулки, на которую (туда и обратно) потребовалось бы по меньшей мере часа три, и, выпросив себе одного из проводников, обратились вспять. Из валявшихся на леднике груд мрамора, талька, исландского и полевого шпата, слюды, они выбрали себе на память несколько кусков, из которых, впрочем, как само собою разумеется, лишь немногие избранные достигли Интерлакена, так как, по мере приближения к Гридельвальду, один за другим прогуливался в пропасть.