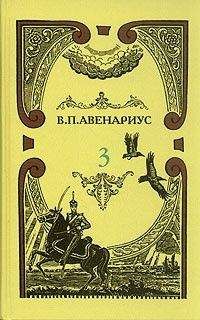— Ненасытный! — и, звонко поцеловав его, скрылась из комнаты.
Как бы удивилась она, если б увидела облако, осенившее тотчас по ее уходе чело возлюбленного; но удивление это перешло бы в ужас, если б она заглянула в его душу: там прочла бы она неумолимое решение: "Полно шалить-то! Покончить поскорее: помириться с Куницыным, с Наденькой — и куда глаза глядят".
Правовед принял своего недавнего врага вполне дружелюбно.
— Спасибо, что зашел, — начал он, — я подал бы тебе руку, да видишь — не могим.
Обе руки у него были еще забинтованы.
— Ничего, мы и так, — отвечал Ластов, пожимая с осторожностью кончики пальцев правой руки больного, выглядывавшие из-под перевязи.
— Я, Ластов, рассудил, что нам, собственно, не из-за чего враждовать, и потому полагал бы дуэль нашу считать оконченною, хотя и остается еще один coup. Как ты думаешь?
— Совершенно с тобою согласен. Но что возвысило так барометр? Не являлась ли к тебе Наденька с уверениями в вечной любви?
Куницын беспокойно повернулся на диване.
— Нет, Наденьки-то не было… Хотя, правду сказать, ей бы и ничего не значило заглянуть разок: рискуют из-за нее жизнью, некоторым образом кровь проливают, как выразился капитан Копейкин, а она себе и в ус не дует.
— Не дует, потому что…
— Не имеет усов? — сострил правовед.
— Нет, может быть, она ничего и не знает…
— О дуэли-то? Сказал, брат! Чтобы из-за девушки дрались, и она об этом не знала? Моничка же догадалась; а если Наденька не так сметлива, то кузина не утерпит передать ей… Да что мне, впрочем, в Наденьке? Она, как я тебе когда-то говорил, незрелый крыжовник; теперь же я убедился, что она крыжовник до того незрелый, что очень легко схватить холеру. Нет, покорно благодарим-с!
— Слава Богу, — вздохнул Ластов, — разошлись наконец во вкусах. Кто же произвел эту благоприятную перемену? Не Саломонида ли?
— Да если б и Саломонида? Тебя, кажется, очень забавляет это имя? Оно, в самом деле, некрасиво. Но Моничка, по моей просьбе, решилась изменить его и называться вперед Семирамидой.
— Гм…
— Что гм? Да, милый мой, промахнулись мы с тобою, не понимаю, где у нас были глаза! Ведь это такой клад…
— Кто? Моничка, то есть Мирочка?
— Да, Мирочка, да. Если б ты видел, как она печется обо мне: прочитывает мне вслух, прикладывает лед к моей ране, даже отморозила себе один палец… Друг мой, что у нее за руки! Белые, пухлые с ямочками… sapristi[107]. Только бы гладить да целовать…
— А ты пробовал их гладить и целовать?
— Н-нет, то есть видишь ли, я обещался не болтать, ну, да тебе можно… а, братец ты мой, дал же ты маху! Не умел воспользоваться таким сокровищем! Она предоставлялась тебе в силу гисбахского договора — ты не хотел, не сумел схватить счастье за шиворот, теперь плачь не плачь — не воротишь.
— Покуда я не имею, по крайней мере, ни малейшего поползновения плакать. Ведь Наденьку ты оставляешь мне?
— Всю как есть, mit Haut unci Haar[108]. Как представлю я ее себе, какою она будет через лет десяток — так дрожь и проберет! Непременно пойдет в матушку, расплывется во все концы, как холмогорская корова! Брр! Ненавижу толстых! Но — de gustibus non est disputandum.
— Именно. Поэтому, я думаю, лучше не хулить чужого предмета. Я не трону Мирочки, ты оставь в покое Наденьку. De gustibus non est disputandum[109].
В это время Ластов увидел в окошко Наденьку, проходившую только что через садик. Не распростившись с правоведом, он кинулся из комнаты, чтобы не пропустить этого случая переговорить с гимназисткой.
Девушка сидела в печальном раздумье в одной из беседок сада. Завидев приближающегося Ластова, она вспыхнула и хотела выйти. Он вынул из кармана многореченный платок ее:
— Считаю долгом возвратить…
Вырвав его у него из рук, гимназистка хотела удалиться. Молодой человек загородил ей дорогу.
— Не уходите, — сказал он тихо и решительно. — Нам надо объясниться.
Наденька колебалась: оставаться или нет?
— Умоляю вас, Надежда Николаевна, на пару слов, не более.
Она повернула назад и села на скамейку.
— Ну-с?
— Скажите, вы ненавидите меня? Гимназистка перебирала складки платья.
— Не ненавижу, но…
— Но презираете, но знать не хотите?
— Да как же знаться с вами, когда вы позволяете себе подобные вещи? Разве я дала вам к тому повод?
За что вы потеряли ко мне всякое уважение? Я держалась в отношении к вам всегда просто, но и как нельзя более прилично… А вы обошлись со мной, как с какой-нибудь…
Голос ее оборвался, и она отвернулась в сторону, чтобы скрыть две слезинки, выступившие на длинных ресницах ее.
— Простите, Надежда Николаевна, вы действительно ничем не виноваты, во всем виноват я, но ведь и величайшему грешнику отпускаются его прегрешенья, если раскаянье его чистосердечно. А разве моя вина уже так велика? Ну, что такое поцелуй?
— Прикосновение губ, говорит Лиза… — прошептала Наденька, против воли улыбнувшись при этом. — Но если я не хотела, то вы и не смели…
— Совершенно справедливо. Но примите в соображение следующие обстоятельства: несколько минут до рокового прикосновения губ вы посвятили меня в свои паладины. Как же не простить паладину небольшого, первого поцелуя, который только закрепил наши отношения, как дамы и ее верного паладина?
— Небольшого! Он был пребольшущий!
— Мог бы быть и больше, — засмеялся Ластов. — Да ведь я и поплатился за свою дерзость: потерял несколько унций крови.
— И, кстати, пустили несколько фунтов ее другому, совершенно постороннему лицу? Хорошо раскаяние!
— Что ж, сам навязался. Ах, Надежда Николаевна! Сами знаете: надежда — кроткая посланница небес. Перестаньте же хмуриться, посланнице небес это вовсе не к лицу. На душе у вас, я знаю, гораздо светлее. Не сердитесь!
— Я и не сержусь…
— Серьезно?
— Нет. Только мы вперед не будем с вами знакомы.
— И говорите, что не сердитесь? Если б вы точно простили, то были бы со мною по-прежнему. Вы молчите? Хотите, я стану на колени?
— Какие глупости!
— Нет, без шуток. Вот я и на коленях. Довольны вы, о, дама моего сердца?
— Ах, что вы, что вы, встаньте… Ну, кто увидит…
— Auch das noch[110]! — раздался перед беседкой раздирающий голос и послышались быстро удаляющиеся по песку шаги. Молодые люди, как ужаленные, вскочили — один с земли, другая со скамейки — и выглянули в сад: по дорожке, за углом дома, скрывалась Мари.
Ластов, растерянный, бледный, поник головой.
— Auch das noch! — повторил он про себя слова швейцарки. — Глупость за глупостью!
— Она не расскажет, она моя поверенная… — поспешила успокоить его Наденька.
— Мало ли что…
С полминуты длилось молчание. Гимназистке стало неловко.
— Вам более нечего сказать мне? — прошептала она, не глядя на собеседника.
— Нечего. Пожалуй, могу еще прибавить, что сегодня же с первым послеобеденным пароходом исчезаю отсюда.
— Как? Совсем?
— Совсем.
— Но с какой стати? Ведь кажется…
— Пора, Надежда Николаевна, не вечно же блаженствовать, надо и честь знать.
— Ну, и с Богом…
Не поднимая глаз, Наденька быстро вышла из беседки и, не оглядываясь, скрылась в дверях дома.
Ластов гордо приподнял голову и решимость блеснула в глазах его.
"Пора, пора, рога трубят… Милые вы мои, добренькие, хорошенькие! Обе-то вы мне дороги, обеих жаль покинуть, но потому-то и следует покинуть… Прочь, прочь! Чем скорее, тем лучше!"
XX
ГРИНДЕЛЬВАЛЬДСКИЙ ГЛЕТЧЕР
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Решиться-то поэт наш твердо решился ехать сегодня же, и товарищ его, которому он привел свои доводы, нашел их вполне основательными и сам также положил отправиться с ним, но судьбе, или, вернее, прачке, неблагоугодно было очистить их путь от некоторых терний: значительная часть белья их была в стирке и, несмотря ни на какие увещевания, не могла быть готова ранее следующего полудня. Надо было покориться.
Но им было суждено остаться еще один лишний день.
— Как? — спросила Лиза за вечерним чаем. — Вы хотите уже улизнуть, не предварив нас о том заранее? Я не дочла ее вашего Фохта, Александр Александрович, а недочитанным не отдам. Вы должны остаться.
— Так оставьте его себе, я сам прочел его и не нуждаюсь в нем более.
— Нет, я не принимаю подарков.
— Да бывали ли вы, господа, в Гриндельвальде? — вмешалась Наденька.
— Нет, не привелось.
— И хотите уже ехать? Не стыдно ли вам! Гриндельвальд — самая романтическая местность в целом Oberland.
— Что правда, то правда, — подхватила Лиза. — На завтра, по крайней мере, вы должны остаться. Сообща и съездим туда.
Друзья переглянулись.
— Не хотелось бы… — проговорил Ластов.