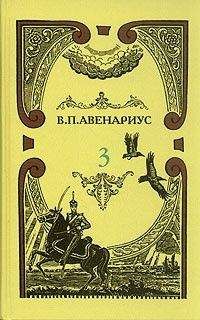Человек даже ахнул от удивления: вино было действительно 48-го года.
— Скажите! — изумилась Моничка.
— Можете представить, как я сам-то обрадовался. Но, само собою, узнавать вино можно только в неиспорченном виде… Когда-то наша бедная Россия достигнет хоть тени всего этого!
— Ах, m-г Куницын, и не упоминайте об ней!
— А театры?..
— Вы, милый мой, рассказываете так увлекательно, что взяла бы да полетела туда. Что ж это наши сидят в этой скучной Швейцарии!
— И все это у них в колоссальных размерах, — продолжал повествователь, довольный уже тем, что нашел внимательную слушательницу, — всякая безделушка бьет в глаза. Идете вы, примерно, по Пале-Роялю — в окнах магазинов только бархат да золото, золото да бархат. Что есть у них лучшего, все на показ. Если бы можно было, то хорошенькие продавщицы и свои очаровательные личики выкладывали бы на окна. Итак, говорю я, все в колоссальных размерах. Лежит, папример, груда не груда — целая гора брелоков для часов, микроскопических каких-нибудь биноклей, а посмотрите в такой бинокль, увидите прелюбопытную фотографию. Вот и у моих часов, как видите, привешена такая штучка.
— Можно взглянуть?
— Да вы, пожалуй, рассердитесь.
— Так что-нибудь нехорошее?
— Напротив, очень хорошее; а впрочем — как знаете.
Моничка отцепила часы от жилетки молодого денди и поднесла привешенную к цепочке крошечную зрительную трубку к глазу.
— Ах, какой вы! — пролепетала она, вспыхнув и быстро опуская часы с замечательным брелоком.
— Ха, ха, ха! — смеялся правовед. — Что же в этом дурного? Ведь и себя же вы видите иногда в подобном туалете. Никто не родится на свет в платьях.
Опустив личико, бы не рассмеяться, Моничка вложила часы обратно в жилетку их владельца и, закусив губу, принялась вновь с усердием прикладывать лед к руке его.
— Есть, правда, одна слабость у французов, — заговорил опять Куницын. — Они не очень опрятны там, где этой опрятности нельзя сразу заметить. Встречается вам, например, барыня, разодетая в пух и в прах. Вы опять недоумеваете: прачка это или герцогиня? Но тут порывом ветра поднимается рукав ее — нет, видно, не прачка, а герцогиня: вашему взору открывается рукавчик, давно жаждущий капитальной стирки. Но эту слабость, по-моему, можно вменить им только в достоинство, потому что, пренебрегая невидимыми частями своего туалета, они имеют возможность тем тщательнее заниматься своей внешностью для достижения в ней того совершенства, которым мы, русские, можем только любоваться, но до которого нам далеко, как до неба.
Так ораторствовал правовед, а Моничка благоговейно внимала ему, прикладывая ему с самоотвержением истинной сестры милосердия лед к больной руке, хотя пальчики ее, сперва покраснев, потом посинев, почти и окостенели уже от холода.
Утро. Поэт сидит в своей комнате за столом, перед открытым окошком. Склонившись головою на левую руку, он мечтательно заглядывается на снежную, облитую солнечными лучами Юнгфрау. В правой руке у него перо, под рукою — бумага, испещренная иероглифами, зачеркнутыми, перечеркнутыми и иногда опять возобновленными рядом точек снизу. Тут выведена особенно старательно, с замысловатыми завитушками, одна какая-нибудь буква, там набросан очерк человеческой или лошадиной головы. Поэт беседует с Музой.
— Herr Lastow… — раздался за его спиною робкий голос.
Поэт не слышит: он напел требуемую рифму, склоняется над бумагой и, как бы опасаясь, чтобы стих не выскользнул у него угрем из рук, торопливо набрасывает четыре строчки. Затем, с самодовольным спокойствием, перечитывает вполголоса написанное.
— Herr Lastow! — повторил громче голос. Ластов оглянулся. В дверях стояла Мари, бледная, убитая. Он подошел к ней и поднял ее подбородок.
— Что с тобою, милая?
Она раскрыла дрожащие губы, хотела что-то ответить и, не произнеся ни слова, отвернулась. Поэт находился в самом приятном расположении духа: удачно найденный стих развеселил его; ему стало жаль девушку.
— Обидел тебя кто? Скажи — я накажу его. Мари взглянула на него: в темно-бархатных глазах ее плавали слезы. Она силилась улыбнуться.
— Накажите же себя самого!
— А! Так это я виноватый?
— А то кто же? Удивляет меня только, как вы и теперь не вздыхаете у ног своей обожаемой.
— Ты, стало быть, знаешь?..
— Что вы целовались с ней? Как не знать! Сама же мне рассказала…
— Сама?
— Не знала, кому поведать свое горе, и меня выбрала… Нашла кого!
Мари заплакала и закрылась руками.
— Перестань, душа моя. Я ее люблю, точно; но и тебя я не менее люблю. Сердце мое так обширно, что вмещает в себе вас обеих.
Du liebes, kleines Madchen,
Komm an mein grosses Herz…[105]
И он хотел обнять ее. Швейцарка высвободилась.
— Оставьте… Вам бы все надсмехаться…
— Ничуть, дорогая моя, я серьезнее, чем когда-либо. Дело очень простое: я жаждал любви; боги послали мне разом и тебя, и ее: виноват ли я в такой благодати? И к тебе, и к ней мое сердце возгорелось чистою страстью, и в обществе которой из вас я нахожусь, та в тот миг мне и дороже. Теперь я, например, весь твой…
И он снова обнял ее. Она уже не противилась.
— Да разве можно любить двух разом? — прошептала она только.
— Как видишь. Собственно говоря, люблю я всегда только одну: теперь, когда я с тобою, я и думаю только о тебе.
Du-Du liegst mir am Herzen,
Du-Du liegst mir im Sinn,
Du-Du machst mir viel Schmerzen,
Weisst nicht, wie gut ich Dir bin.[106]
Ну, засмейся!
Мари сквозь слезы улыбнулась.
— Ну, еще на грош!
Мари засмеялась.
— Вот так. Теперь, для полного мира, поцелуемся.
Она дала поцеловать себя. Называя ее всевозможными нежными именами, молодой человек усадил ее на диван; потом стал перед нею на колени. Луч радости осветил бледные черты девушки.
— Так вы меня еще немножко любите? Вы теперь не думаете об ней? Вы… ты теперь мой, весь мой?
— Твой, милая…
— Ты мой, мой?..
Обеими руками обхватила она его голову и сжала ее так крепко, что Ластов даже вскрикнул.
— А! То-то же! Видишь, как я люблю тебя. Знаешь, с какого времени ты полюбился мне?
— С какого?
— С первого же дня. Помнишь, ты расписался в книге: "Naturfuscher", и когда я спросила: что ж это такое? — ты объяснил мне, что срываешь все хорошенькие цветочки… "Уж не сорвет ли и меня?" — мелькнуло у меня в уме.
— Ишь, какая! — засмеялся молодой человек. — Так ты знаешь, что ты хорошенькая?
— Да ведь сам же ты, милый мой, уверял меня в том? — был наивный ответ. — И мог ли ты, такой умный, такой красавец, полюбить некрасивую?
— Аргумент неопровержимый!
— Вот ты и говоришь мне: "Берегитесь, моя милая, чтоб и вас не постигла та же участь". Я, разумеется, покраснела, а ты нагнулся над чемоданом и говоришь: "Не краснейте: я не буду больше смотреть". Такой шутник! Тут у меня и дрогнуло сердечко, точно что кольнуло, так и хотелось броситься к тебе. "Какой он интересный! — подумала я и взглянула на тебя. — Да и что за милашка!" Душка ты мой, душенок!
Она наклонилась к нему и, как дитя, обвила его шею руками.
— А помнишь, как ты спрашивал меня, нравится ли мне Вертер? Я очень рассердилась, когда ты назвал его плаксой. Ведь в тебе я видела своего Вертера, ты был такой бледный, красивый, да такой милый… Как же мне было не сердиться, когда ты бранил самого себя?
— Бедная моя! — вздохнул поэт.
— Я бедная? Нет, сударь мой, я богатейшая, ух, какая богатая: ты ведь мой!
Она прижала его к себе со всем жаром молодой, несдержанной страсти.
— Ах, я и забыла, зачем пришла к тебе! — спохватилась она вдруг и залилась светлым смехом. — Этот Advocat aus St.-Petersburg хочет видеть тебя.
— Куницын?
— Да, зайти просил. Совсем из головы вон. А все ты, мой голубчик! Ну, прощай, до свиданья.
Она порхнула к двери.
— Разве так прощаются? — спросил с шутливым укором Ластов.
Девушка вернулась к нему:
— Ненасытный! — и, звонко поцеловав его, скрылась из комнаты.
Как бы удивилась она, если б увидела облако, осенившее тотчас по ее уходе чело возлюбленного; но удивление это перешло бы в ужас, если б она заглянула в его душу: там прочла бы она неумолимое решение: "Полно шалить-то! Покончить поскорее: помириться с Куницыным, с Наденькой — и куда глаза глядят".
Правовед принял своего недавнего врага вполне дружелюбно.
— Спасибо, что зашел, — начал он, — я подал бы тебе руку, да видишь — не могим.
Обе руки у него были еще забинтованы.
— Ничего, мы и так, — отвечал Ластов, пожимая с осторожностью кончики пальцев правой руки больного, выглядывавшие из-под перевязи.
— Я, Ластов, рассудил, что нам, собственно, не из-за чего враждовать, и потому полагал бы дуэль нашу считать оконченною, хотя и остается еще один coup. Как ты думаешь?