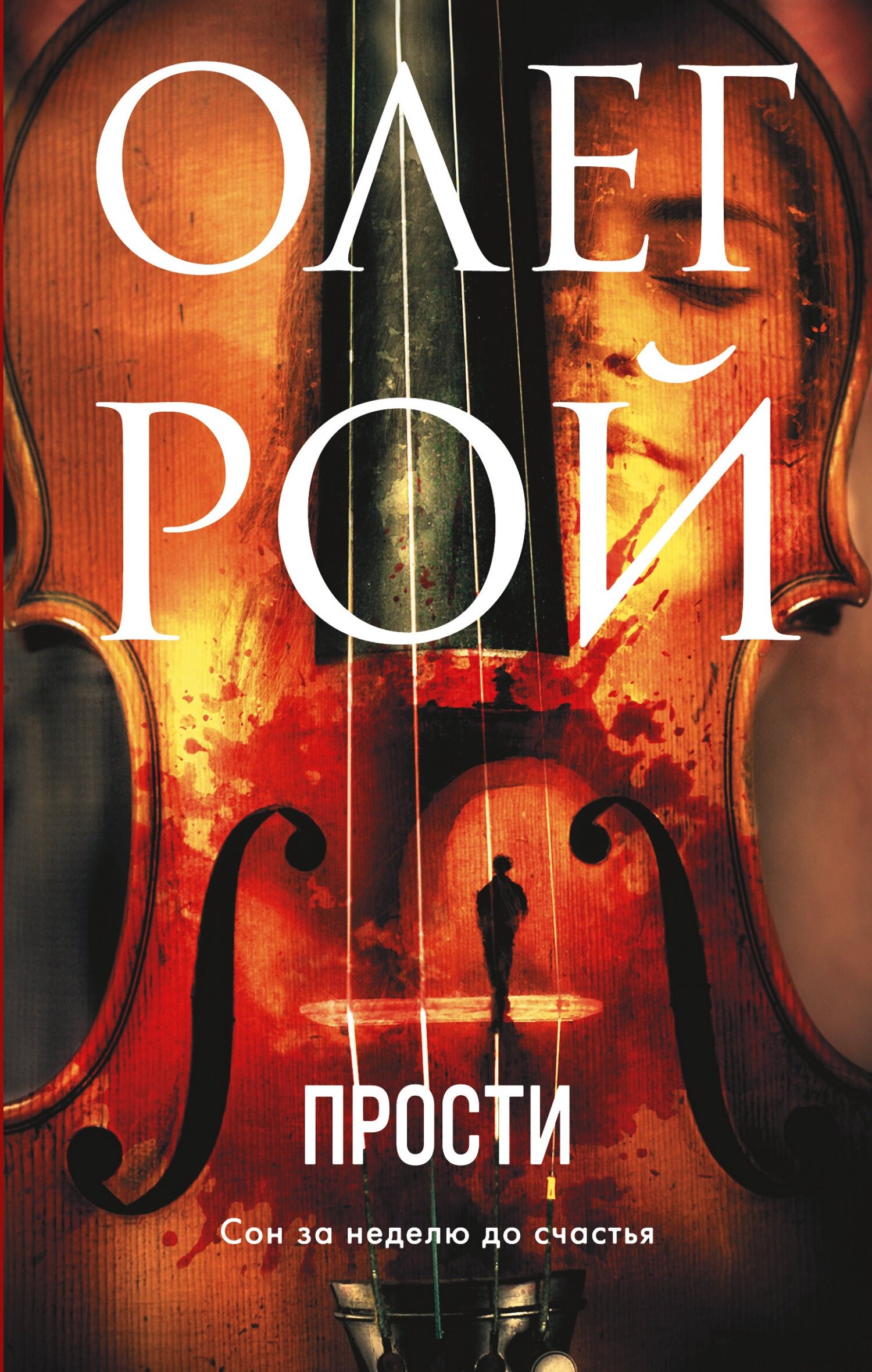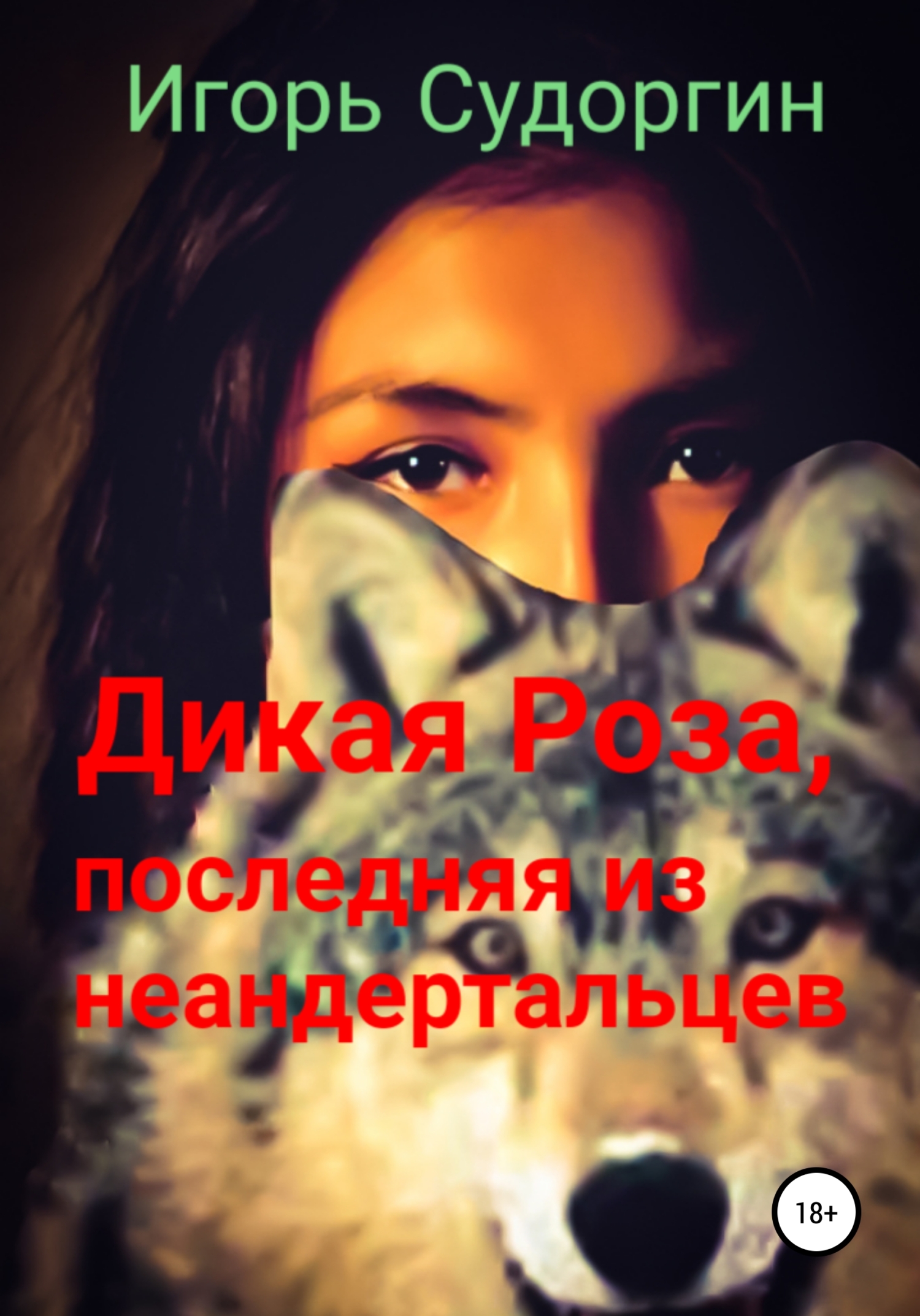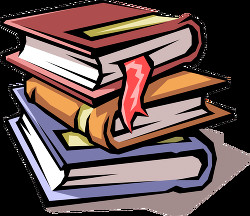бьется так оглушительно, что непонятно – почему никто не бежит на этот грохот?
Нет, она не станет падать в обморок!
Герман… ее… любит?!! А она… Взлет из темной глухой бездны отчаяния – к сияющему счастью – это и есть… любовь? Да Олесе ни за какие коврижки… Глупенькая, прошептал кто-то в голове – ты ведь тоже его любишь!
И звон в ушах, и странный привкус во рту… Кровь из прокушенной губы. Конечно, любишь!
– Господи! – ахнул Герман. – У тебя… кровь! Маленькая моя! Извини, ну извини! – Он прижал ее так, что перехватило дыхание, покрывая лихорадочными поцелуями и окровавленную губу, и все лицо, и шею, и волосы, и руки…
Господи, вторил голос в Олесиной голове, какое счастье, что мы встретились… За такое счастье ничего, ничего не жаль!
– Леська, хватит дрыхнуть! – завопила в трубку Карина, позвонив в какую-то несусветную рань. Впрочем, Олеся была этому даже рада: уж лучше не выспаться, чем опять искать в тумане несуществующий выход. – У меня есть идея!
Это не слишком радовало, но ладно, пусть будет идея. Что-то в давешнем Каринином монологе про выученную беспомощность было. Почему Олеся действительно не может, условно говоря, выйти из логова? Только мечтает. И ведь действительно – не может. Ложится на пол, закрывает лапами голову и скулит. Как те собаки, которых током мучили. Правда, Олеся-то не скулит, но… Съеживается – и ждет, что сверху обрушится очередной удар. Как ни крути, ведь не восемьдесят же ей, в самом деле. Она что, собирается всю жизнь в норе просидеть? Оно бы, может, и неплохо – тихо, тепло, никто не ударит – но странно. Вылезать – страшно. И совсем, совсем не хочется. Не можется. Все равно как человека с боязнью высоты заставляют с парашютом прыгнуть.
Но если с помощью Карины получится сделать шаг – это ж хорошо? В конце концов, именно благодаря Карине ты хоть на работу устроилась, а то ведь на бабушкиной шее висела тряпочкой. Стыдно. Но – устроилась, работаешь. Молодец. Можно попытаться еще шажок сделать. И – обрадоваться: не вовсе беспомощная, ноги еще немного ходят. Если, конечно, Карина сейчас не вовсе что-то немыслимое выдумала.
– Что за идея? – сонным голосом поинтересовалась она в трубку. Хотя, спасибо потоку мыслей, уже вполне проснулась.
– Давай устроим двойное свидание! Чисто для эксперимента. Эдик позовет своего друга, посидим с мальчиками в приличном месте, поболтаем, ничего такого.
– А как же тот шофер? В смысле таксист? Которого ты мне сосватать пыталась.
– Хочешь таксиста, давай его позовем, не вопрос. Но вообще-то я уже договорилась с Эдиком. Хороший мальчик… не Эдик, а его друг. То есть Эдик вообще прелесть… ой, ты меня запутала. Короче, ты поняла. Зацени, какой красавчик!
Красавчик не красавчик, но фото в мессенджере выглядело вполне симпатично. Темноволосый (судьба ей, что ли, сплошь брюнетов подсовывает?), подтянутый, наверняка под футболкой те самые кубики, на которых нынче все как помешались. Моложавый, явно не сорок, то есть младше Каринкиного Эдика. А то и самой Олеси.
– Лет-то этому красавчику сколько?
– Ну… – Карина замялась. – Нет, ты не думай, универ он уже закончил, работает, он Эдику на самом деле племянник, но, как и я, полукровка. И подумаешь, младше! Тебя до сих пор за студентку принимают.
– Карин, может, давай не сразу? Мне твой вчерашний монолог обдумать надо. И вот так, с ходу… Может, сперва просто вдвоем куда-нибудь выберемся? На выставку какую-нибудь.
– Лесь! На выставки мы с тобой миллион раз ходили, это уже пройденный этап. Ты знаешь, что ты это можешь, и ничего в этом нет страшного. А теперь попробуешь с людьми пообщаться. Не с читателями твоими, а с нормальными, то есть взрослыми. Тоже ничего страшного. Не понравится тебе этот, ну и нафиг его, я ж тебя не в ЗАГС с ним тащу, просто поболтаем. Глаза боятся, руки делают, а?
Пять лет назад
Глаза боятся, руки делают, повторяла Олеся, протирая, начищая, намывая – наводя блеск. Она-то предполагала, что они с Германом пройдутся по магазинам, выбирая продукты и всякие милые пустячки вроде рождественских веночков – это было бы так мило, так по-семейному. Но, увы, он сразу сказал:
– Готовить ничего не нужно, я все сам привезу.
Что ж, наверное, он знает, как лучше. Да и нет у него времени по магазинам мотаться, всеми бытовыми вопросами помощники занимаются. Или помощницы? Олеся пыталась спросить, но он только отшучивался. И в самом деле – какая разница? Даже если и помощницы – он-то с ней, а не с ними. И о визите сам вспомнил! И уж она не ударит в грязь лицом.
В грязь – в буквальном смысле. Два дня она вылизывала квартиру: натерла старенький уже паркет, промыла (щеткой, щеткой!) все плинтусы, вычистила каждую щелочку. Больше всего времени заняли, разумеется, книги. Разве, протирая их, можно удержаться и не открыть – на случайном месте. Это было похоже на гадание – что выпадет? Выпадало все сплошь благоприятное.
Окинув наконец взглядом сияющий от чистоты интерьер – хоть бы английскую королеву не стыдно пригласить! – Олеся позвонила наконец Карине. Нет, она, разумеется, держала подругу в курсе событий (правда, о размолвке на вечеринке так и не рассказала), но сейчас это был какой-то новый этап.
– Только не позволяй Таисии Николаевне его запугать, – засмеялась Карина.
– В каком смысле?
– А то сама не знаешь! Она у тебя, конечно, чудо и супербабка, но по первости может произвести странное впечатление. Я сперва при ней слова лишнего вымолвить боялась.
Карина? Боялась сказать лишнее слово?! Верилось с трудом, но ей со своей колокольни виднее. Ох, как-то все пройдет… Та же Карина говаривала: бедненько, но чистенько. И ведь ей от того ни разу не неловко. Ну родился ты с золотой ложкой во рту – а мы зато сами всего добились, ну так и кому должно быть неловко? Олеся подумала, что если заметит в глазах Германа снисходительность – значит, бабушка права, и впрямь дерево надо по себе рубить. Тогда, в кафе, «на тебя нетрудно угодить», ей просто показалось – а если нет?
И дверь на звонок она распахивала так стремительно, словно боролась с кем-то. С собой, чего уж. Но никаких снисходительных взглядов (подъезд-то у них тоже того, не мраморный) не обнаружилось. Обнаружились цветы. Слева лилии, справа – пестро-праздничные герберы. А еще какие-то сухоцветы просматривались и еловые ветки.
Цветы оказались двумя небольшими, но очень изящными букетами: лилии для самой Олеси, герберы – для бабушки. Все остальное