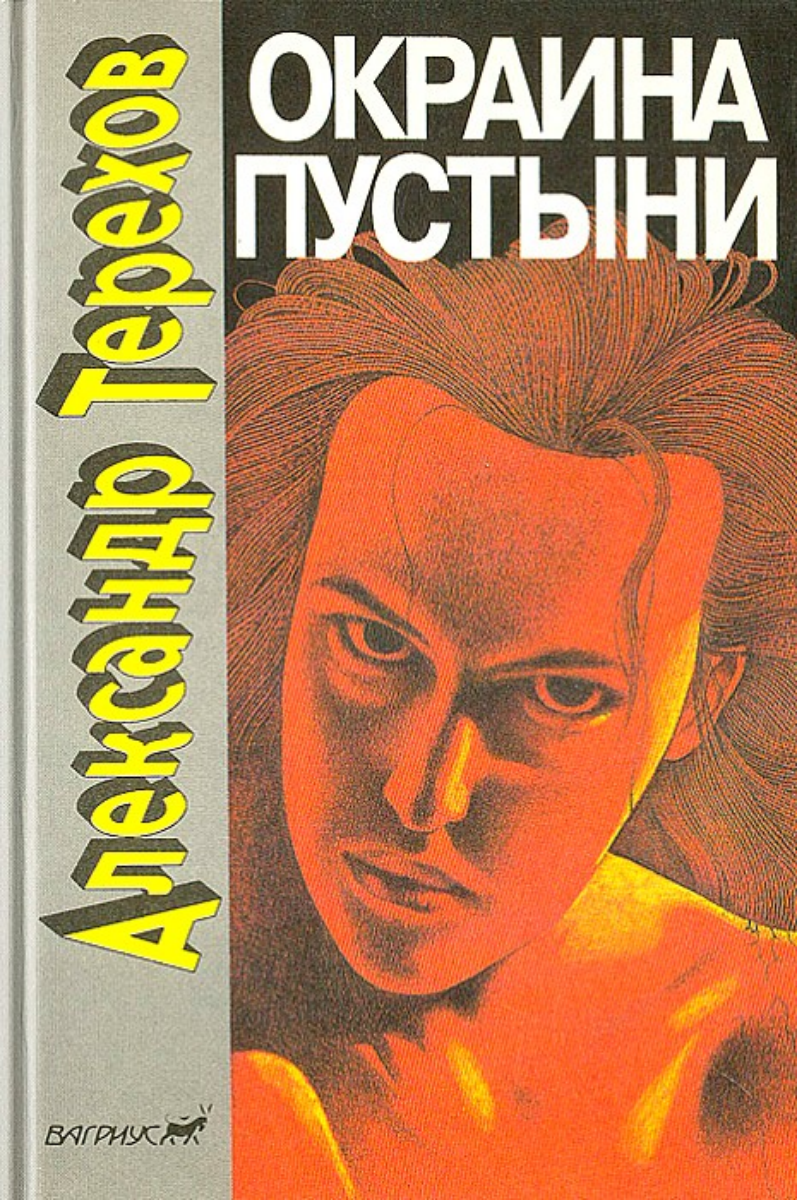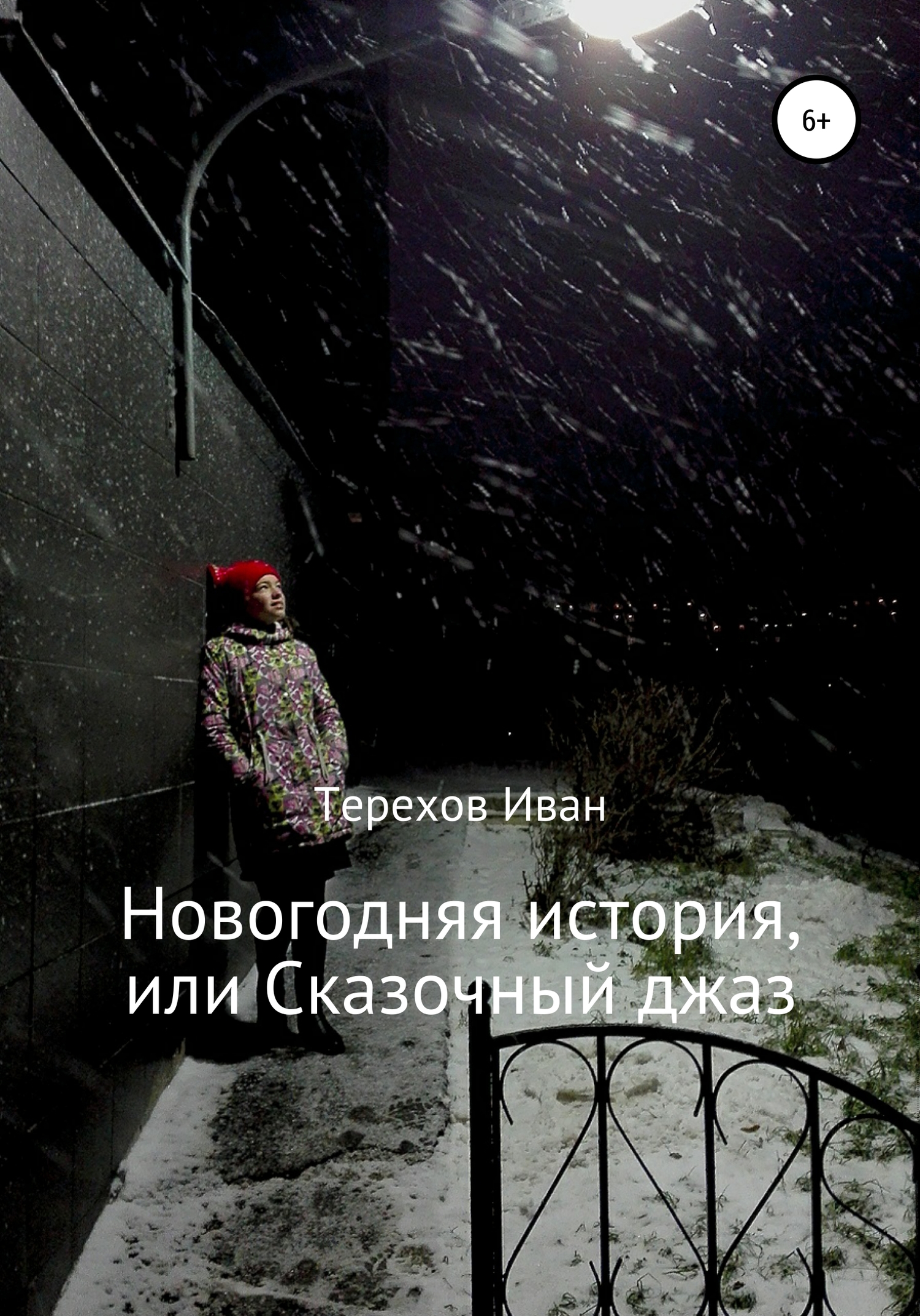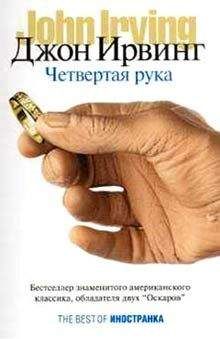в зеркало в ванной и споткнулся о совок, схватил его и веник тоже, веник потрескивал в отчаянно сильной руке: он вертел ими в воздухе и держал, как русский царь — скипетр и державу, и все примеривался: как? смести веником со стула на пол? А уместится ли на совке? Так, чтобы можно не глядя, не видеть. Не коснется ли хвост руки? Нуда потом? Потом? Нести по коридору? В мусоропровод? Жечь? Она одна?
Ворвался и размазал его в прах сыпучий свистящий шорох, высушил страхом рот, и он обреченно угнул голову и сжался, сильнее: ну откуда? идет? Началось? Что? Но это было из-за двери. Вкрадчиво шелестело, еще раз. Из-за двери.
И он пинком распахнул дверь, долбанув ею по чьей-то руке, протянутой постучать, и там, за дверью, ахнули, всхлипом, как ночная, тяжкая вода под низким мосточком, едва.
Грачев, обмирая, вглядывался, уже зная все, и ему хотелось сейчас, сразу, вмиг не быть, отсутствовать, сгореть на глазах, и он отодвигал ногой веник и совок, выпавшие из рук, отодвигал их с возможного пути, а сам просто перегораживал его, косолапо топтался и наконец сокрушенно всплеснул руками своими:
— Вы…— и выдавил постыдную, горькую детскую жалобу. — Но мне даже некуда вас пригласить…
Она прижимала к груди ушибленный кулачок. Плащ ее, смоляной И поблескивающий, как ночная автострада, смоченная дождем, шуршал деревом кленом над сырой лавочкой, когда до снега еще — время телефонных звонков и молчания в трубку, печальных томящих гуляний, маеты, запаха астр и делимости жизни школьными звонками…
Эта девушка, эта девушка, с белокурым бременем волос, тянувшим голову назад до гордого взлета подбородка, его девушка теперь, он не мог даже видеть ее, пришедшую, чтобы как-то быть его, он не смог устоять на таком ветру, его потащило, он звал ветер сам, оживил эту плоть и вызвал к себе, рухнув, переломившись, провалившись, как сухая, неверная ветка под невиданной птицей, и свирепел, и смеялся:
— А как же дубленочка? Нет? Так и нет, не нашли? Да-а… Так плащик теперь поберегите.
И тут же свалился на колени от одного детского вздоха ее, и посыпалось из него ревущими рыдающими кусками и стаей:
— Не уходите! Мне очень этого надо, я сейчас уберу, у меня небольшой беспорядок, там. Мне— чуть времени, все приготовлю — посидим, хоть немного, я провожу потом, не бойтесь только, не бойтесь, все так сложно, страшно, я потом скажу, я сейчас уберу — уже не имеет это для меня значения, если вы. Быть может, что вы это… И сами сможете потом понять, что вы… Вы даже начинаете это понимать, раз пришли ко мне, свет мой, пришли. Немного времени? Есть же, правда? Подождите!
Но она, незамечающе, уже вступала в комнату, мимо, мимо него, не коснувшись, но все равно — обдав собой, дурманом, и он дернулся за ее спиной, но не мог двинуться с места и только размахивал руками и умолял:
— Стойте, не надо туда, я же прошу обождать, мне минуту, не больше. Ну куда вы? Не проходите, там стул, не садиться, просто стул, он… запачкан, я прошу вас, только об этом — не надо туда! Ну зачем вы так сразу! — а она шла дальше, мимо, на дальнюю половину, а там уже взревел бешено до брызга слюны Шелковников:
— Да ты отстанешь от меня сегодня, сволочь поганая?! Я тебе что сказал? С крысами сиди! А? Что? Кто? Какой араб, деточка? Ты мне не моргай. Я тебе не врач-гинеколог. Глаза протирай перед употреблением и храни на ночь в стакане с чистой водой. Это — 422. А 402 — это другой конец, по левой стороне. Уши чистить тоже по утрам — на спичку мотайте ватку и в марганцовку. И катись отсюда скорей, все! Спасу нет!
Она вышла, другая, с переменой, плащ ее скрежетал, уходя, как стрекозиные жесткие крыла, — Грачев стоял подальше от нее, в углу и насовывал на голову шапку.
А из 402, вдали, к ней вышел тот, незнакомый и смуглый, душистый, оказывается, араб, он красивый мужик, он засмеялся. она что-то рассказывала ему громко, а он говорил, отвечал гортанно и все сгибался, нагибался, целовал руку, нагибался, ее приглашая, — проходите, там играла хорошая, бьющая музыка, и она, эта девушка, канула в комнату, пока Грачев шел по коридору на выход, а туда же пришла свита: Хруль, Аслан и кто-то еще из телехолла, там кончился, что ли, фильм, и музыка в комнате стала другой и погромче, сменили, что ли, кассету — намечались танцы, ну что ж, а на улице густой дробью засеял снег, небо поглотило, сожрало дома и доросло до неба родной провинции: небесного поля, скатерти, всего бескрайнего над небольшим земным, — ночь все оседала пластами, кромешней к макушке, она льнула к земле, смешаться, быть вместе.
Впереди торопилась девочка за мамой, она доела мороженое, смяла стаканчик и отправила его в снег — палочка выскочила из него на лету н упала отдельно. И что-то было еще. Вот еще.
Он выстоял очередь, читая плакаты и требования, и ему кричал усатый, но женский рот:
— Нету, кассира нету, больная. Я? Что я? Техработник. А тебе это надо? Лучше рот свой закрой. Сам и иди на такую зарплату. Что? Чтоб я дерьму такому «вы» говорила? а-ха-ха, а-ха-ха… Ага, по тебе видно, что… Да он пьяный! Знаешь что? А вот то. Иди и не воняй, ага, Подождут твои таджики, хватит с них.
Он поднялся на второй этаж, где был переговорный пункт, и час прождал, согнувшись над чистым бланком телеграммы: куда, кому, серия.
— Алло, — сказал он в кабине, — мама!
— Очень плохо слышно, — надтреснуто кричала мама меж бульканий и хруста в мире. —Ты так рано звонишь, в середине месяца, я совсем не ждала. Тебе хватило денег? Ты стипендию подучал? Ты себе ничего не покупал? Ой, опять прерывает, да что же это такое, совсем не слышно, алло… алло? Да что ты будешь делать…
— Мама, я хочу приехать, —он потом уже кричал, отвернувшись от ждущего народа. — Может быть, я приеду скоро. Не знаю когда. Может быть, мне приехать?
— У тебя что-то случилось? Что. У. Тебя. Случилось? Я хотела передать тебе картошки, хоть мешок, тебе надолго, никак не договорюсь с Гвоздиками, они мешок хотели дать. Ты говори громче, пожалуйста, да что же за