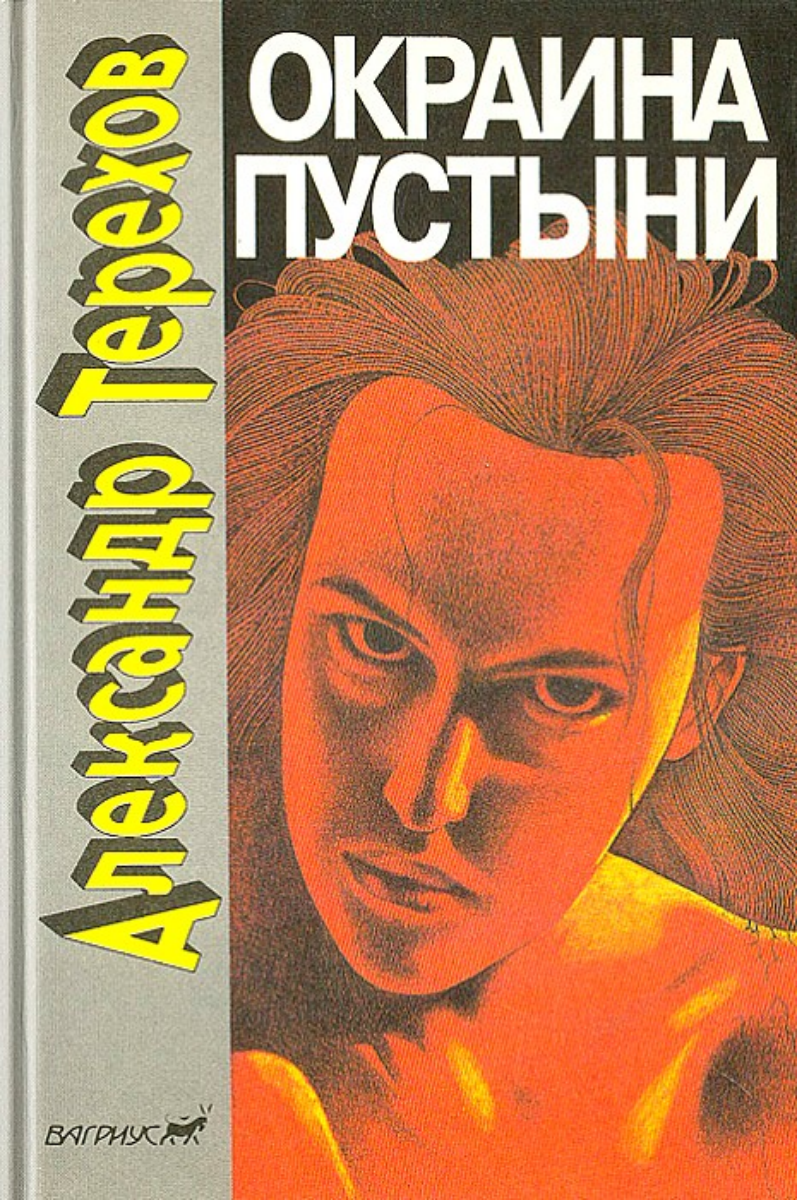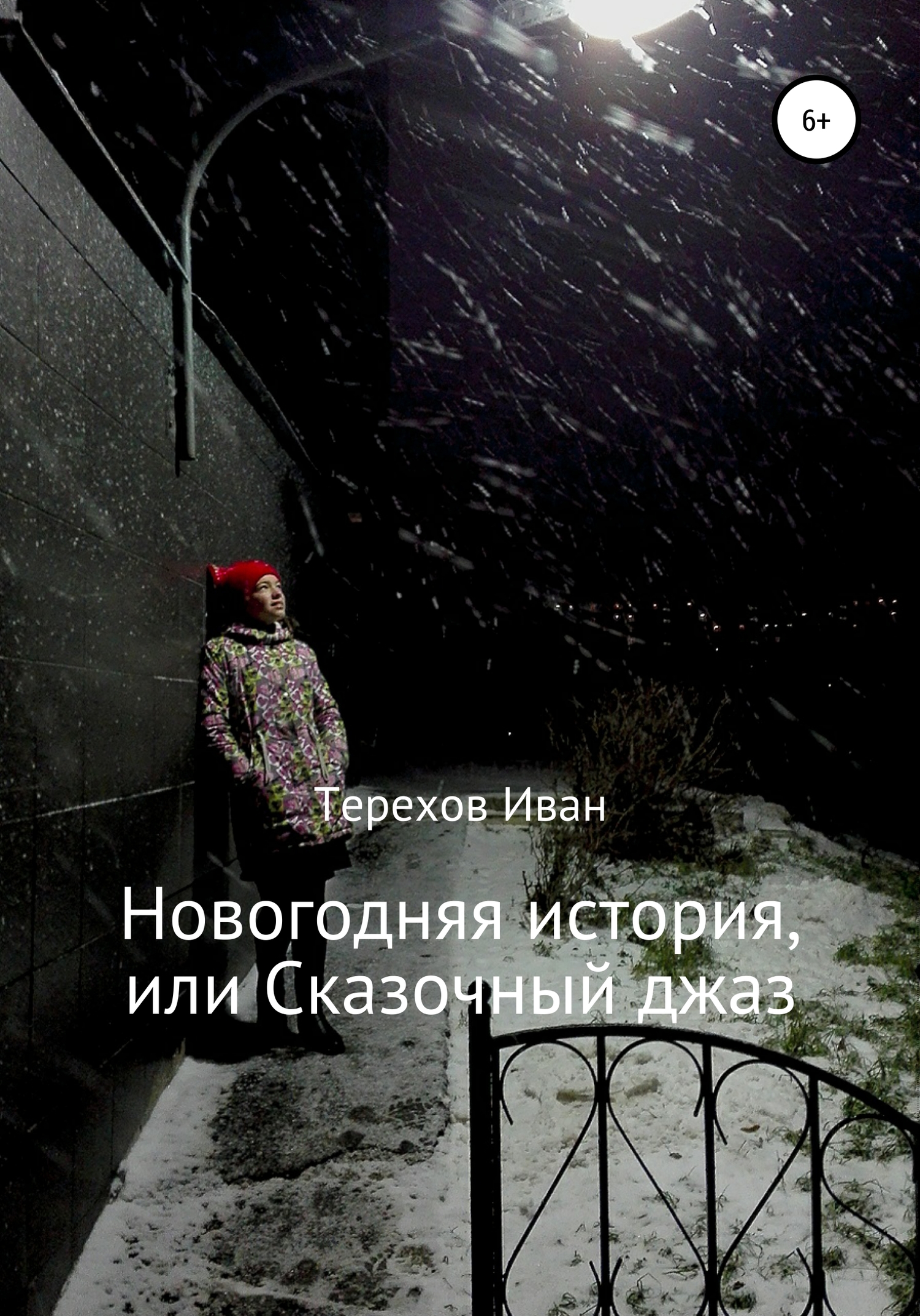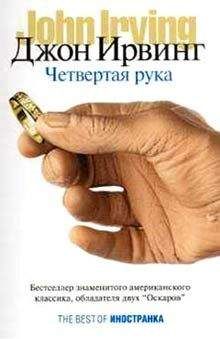ее бок — ванна эхом гудела, но слабо, умирая. Он поводил пальцем по крошащимся бороздкам известки меж кафельных плиток: вниз, углом влево, углом вправо.
Шелковников за стеной надрывался:
— Возьми там карты… На полке! Девочки, по пять копеек? Верно? Я или под деньги, или на раздевание. Как, Ольга? Ты серьезный товарищ— вот какие бока тут у нас. Сколько же ты на себя напялила? Мерзнешь, а? Да ладно! Да я просто потрогал, да ладно тебе. Ой-ей-ей, да чего она, Ир? Ну что за дела, чего ломаться-то, верно?
Оказывается, баб было две. Это просто они смеялись по очереди.
Грачев перебрался тяжело в ванну, отгородился клеенкой и принялся располагаться поудобнее. Можно лежать. А вдруг из крана капнет? Если сидеть — тут верхняя горловина для спуска воды мешается. Лучше сидеть, но повернуться в другую сторону.
Он накрыл ладонью лоб, отнял ладонь и опять, уже лучше приложил. Отвел руку снова и ударил, двинул что есть сил себя по лицу, обжегшись придушенным вздохом, и тихо попросил:
— Не думай. Не думай.
Теперь он лег на бок и постелил под голову носовой платок, для порядка.
Смеяться стали реже и неуверенней, все больше вскрикивали и деланно ойкали.
В Грачева потянулся, потек холод, просачиваясь через платок, от железа, от студеного, голова будто всасывала его и тяжелела, но теряя плоть свою и боль, и он ждал растворения совсем, ухода — и ему мешало только дыхание его: больное, поношенное, как у склонившейся над кроватью матери.
В комнате глухо охали кровати, шептали, пыхтели, прыгнули на пол, простучали, и кто-то забежал в ванну, и следом еще.
— Так. Ну-ка пусти!
— Да что ты, Ирка? Чего ты испугалась? Сколько можно-то…
— Ты не понял, что ли? Я тебе говорю: ну-ка, убрал свои руки, вымой сначала!
— Ну, убрал, успокоилась? Ну чего ты орешь? Зубы у тебя лишние? — это был Шелковников.
— Тебе что, Ольки не хватит?
— Погоди, ты чего сюда пришла? Чай пить? Я о тебе забочусь, дура ты. Как приедут из своей деревни и выламываются… Не первый год ведь ездишь. Чего строить-то из себя? Не пробовала вместе — попробуешь, хоть образуешься немного, верно? Чего ты испугалась?
— Не трогай ты меня!
— Все свои, распробуешь — чего стесняться? Он потом подойдет. Он тоже это дело уважает, и не то…
— Пусти, ну пусти, —и она вдруг рассмеялась. —Ну какой же ты липкий!
— Это ты — слишком сладкая. Ну, правда, что испугалась? Взрослые люди, верно? Все понимаем. Ой, ну зачем так-то?
Она плакала, бормотала устало:
— Так… Ты выйди. Мне просто… тут надо. Я пока здесь. А потом приди, скоро. За мной.
— Все ! Все понял. Все нормально, Ирочка, все будет красиво. Как в фильме. Я только Ольке скажу, быстро. Ты раздевайся и мойся. И мы к тебе придем. Сначала я один. Занырну к тебе, верно? Как в фильме, давай, сейчас, ага.
Шелковников убежал нервными скачками. После коротко всхлипывающей паузы дверь ванной выпустила кого-то, и входная дверь сделала то же самое, и по коридору убежали быстрые ноги, без остановки.
Ванная осталась относительно пуста.
Грачев поворочался и пьяно приподнялся, утихомиривая в глазах закружившуюся жаркую муть. Сел на задний бортик и включил воду. Сделал потеплей, переключил на лейку. И принялся смывать в дырку тараканьи трупы и освежать разводы грязи на дне.
— Я! — ввалился в ванную Шелковников. — Скажи мне: давай! Я иду. Ты уже хочешь этого, да? Да?!
Затрещали пуговицы и молнии.
— Олька придет, —рычал Шелковников, путаясь в штанах. — А мы красиво, как в кино, я тут видел. Как шведы и шведки, верно? И что тебе Грачев, он это… по болезни занимается, а я— по любви. А-ах, ах, сейчас. Ждешь, а? Ты меня ждешь уже? Ты! Меня! Ждешь?!
Грачев вяло качнул лейкой вверх и брызги перелетели через клеенку.
— Уй-юй-юй, — подпрыгнул Шелковников за клеенкой. — Я, оох, мых, аа-ах, сейчас я до тебя доберу-усь! Ну, ты только позови меня! Ты только скажи, чтобы я захотел. Нежно так… Чтобы эстетика была, культура, мы — как боги…
Грачев призадумался и сделал воду погорячей — ванную запрудил пар.
— Ты зовешь меня, милая? Дурочка моя! Трусиха! А? Ждешь? Все будет нормально, красиво, у меня тут такие сюрпризы, ты таких никогда и нигде, все четко, ах, все отлично, ага-га-га и где тут наша кисочка, что Там она от нас прячет, а-аа? — и он отвел трепетной рукой клеенку с ванны, — Ну!
Грачев переключил воду на кран, перекрыл совсем. чтобы было тише, и деловито спросил:
— С чего начнем?
И оценивающе сощурился.
Шелковников уронил руки, он горбился, будто сдувался.
— Нак ты меня достал, — простонал он. — Как ты меня достал.
Он синел на холоде и прятал глаза, будто плакал, и крикнул назад, заслышав шлепанье босых ног:
— Не ходи сюда! Эта тварь ушла!
А потом Шелковников полез в зеленые трусы и размеренно, сонно говорил без выражения:
— Иди к себе. Живи там. Не мешай мне. Я тебе не мешаю. Сиди у себя. И делай, что хочешь хоть с Иркой, хоть с крысами. Кидай камешки. Но только не приходи ко мне. Я больше морду твою не переношу. Падаль. Не заходи ко мне. Не прячься больше у меня. Я не могу морду твою видеть.
— Нет. Я тихо посижу у тебя. Мне нельзя к себе. Так получилось, я не буду смотреть. Последний раз.
— Нет. Не посидишь. Уходи. Страшно тебе? Все равно: иди. Ты меня достал своими психами. Ты все выворачиваешь. После тебя уже ничего не надо. Хоть в коридоре живи. Ко мне нет, я не хочу, живи с крысами. Крыса!
Шелковников скомкал оставшуюся одежду и зашлепал тапками к себе на половину.
И истошно завыл уже оттуда:
— Ну что тебе от меня надо-о?! Что надо-о?! Козел! Скотина! Зайдешь — получишь в морду! Хватит! Падалы! Крыса! Сиди там! Молчи— и не лезь!
Там вздрогнули кровати.
А потом Грачев стал громко двигаться, натягивать куртку и пытался напевать, чтобы не слушать потемки и не знать ничего о своей кровати, углах, норах и стульях, ничего больше у него нет, он все крутился у дверей, то прикрывая глаза, чтобы вслушаться, то напевая, чтобы не слышать, и себя тоже не слышать, глянул