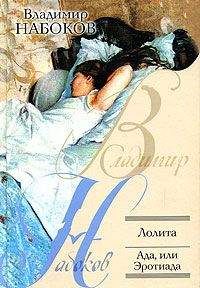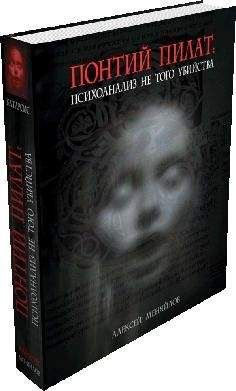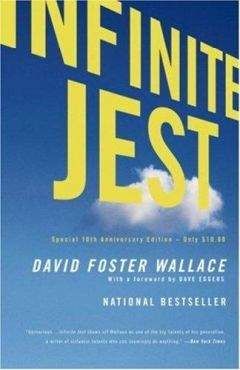– Ты плюешься, любимый, – сказала с бледной улыбкой Ада, стирая В и Б. – Я не знаю. Я обожаю тебя. Я никогда никого в моей жизни не полюблю так, как тебя, никогда и нигде, ни в вечности, ни в бренности, ни в небесах, ни в Ладоре, ни на Терре, куда, говорят, отправляются наши души. Но. Но, любовь моя, мой Ван, я чувственная, я страшно чувственная, я не знаю, я говорю тебе честно, qu'y puis-je? О мой милый, не спрашивай ни о чем, у нас в школе есть одна девочка, которая в меня влюблена, я сама не знаю, что говорю...
– Девчонки не в счет, – сказал Ван, – а вот мальчишку, который прикоснется к тебе, я уничтожу. Ночью я пытался сочинить об этом стихотворение, но стихов я писать не умею; оно начинается, только лишь начинается так: Ада, наши сады и услады, – все остальное в тумане, постарайся вообразить остальное.
Они обнялись в последний раз и он, не оглядываясь, убежал.
Спотыкаясь о яблоки, свирепо срубая стеком головки высоких кичливых укропин, Ван возвратился к Лесной Развилке. Омеро, его любимый вороной жеребец, стоял в ожидании, юный Мавр держал коня под уздцы. Ван отблагодарил конюшенного мальчишку пригоршней стелл и понесся галопом, сжимая поводья руками в мокрых от слез перчатках.
В первую пору разлуки Ван с Адой изобрели для своей переписки шифр, который они постоянно совершенствовали в течение пятнадцати месяцев, прошедших после отъезда Вана из Ардиса. Разлука в целом обняла почти четыре года («наша черная радуга», так назвала ее Ада) – с сентября 1884-го по июнь 1888-го, – впрочем, им выпали два недолгих, полных нестерпимого блаженства перерыва (в августе 1885-го да в июне 1886-го) и пара случайных свиданий («через решетку дождя»). Шифры описывать скучно, и все же кое-какие основные детали придется пусть нехотя, но сообщить.
За однобуквенными словами сохранялось их обиходное обличье. В любом слове подлиннее каждая буква заменялась другой, отсчитываемой от нее по алфавитному ряду – второй, третьей, четвертой и так далее – в зависимости от количества букв в слове. Таким образом «любовь», слово из шести букв, преобразовывалась в «сДжфзВ» («с» – шестая после «л» буква в алфавитном порядке, «з» – шестая после «б» и так далее), при этом в двух случаях пришлось, исчерпав алфавит, вернуться к его началу (буквы, переливавшиеся в новый ряд, становились заглавными: «В», например, отвечает «ь», чьей заменой в слове «любовь» должна быть шестая, стоящая за нею буква: «эюяАБВ»; а «ю» забирается в следующий ряд еще глубже: «яАБВГД». При чтении популярных книг, разъясняющих теорию строения вселенной (безмятежно открываясь несколькими непринужденными, простыми и ясными абзацами), наступает страшный миг, когда страница вдруг зарастает математическими формулами, немедля ослепляющими разум читателя. Мы столь далеко заходить не станем. Если простодушный читатель отнесется к описанию тайнописи, принятой нашими любовниками (слово «наши» может само по себе стать источником дополнительного раздражения, но тут уж ничего не поделаешь), с большей внимательностью и меньшей неприязнью, он, хочется верить, разберется в этом «переливании» в следующие АБВГД.
Увы, не обошлось без осложнений. Ада предложила ввести некоторые усовершенствования, например, начинать каждое письмо на шифрованном французском, затем, как только встретится первое слово из двух букв, переходить на шифрованный английский, затем после трехбуквенного слова возвращаться к французскому, еще и перемежая возвратно-поступательное движение добавочными вариациями. Из-за этих усовершенствований читать письма стало даже труднее, чем писать, особливо при том, что оба распаленных нежной страстью корреспондента вносили в свои послания запоздалые вставки, вымарывали целые фразы, редактировали добавления и восстанавливали вымарки, допуская и в орфографии, и в кодировании ошибки, порождаемые как попытками выразить невыразимое горе, так и чрезмерной усложненностью принятой ими криптографической системы.
Во вторую разлуку, начавшуюся в 1886-м, шифр разительно переменился. И Ван, и Ада еще помнили наизусть семьдесят две строки Марвеллова «Сада» и сорок – «Воспоминания» Рембо. Из этих двух текстов они и выбирали буквы нужных им слов. Скажем, с2.11, с1.2.20, с2.8 соответствовало слову «love», причем «с» со следующим за ним числом указывало строку в стихотворении Марвелла, а второе число – положение буквы в этой строке: с2.11 означало «одиннадцатая буква второй строки», – на мой взгляд, тут все достаточно ясно; если же возникала потребность в усложняющем разнообразии, то использовалось стихотворение Рембо, и буква, обозначающая строку, попросту становилась заглавной. Все это, опять-таки, скучно объяснять, а получить удовольствие от чтения объяснений можно, лишь питая надежду (боюсь, обманчивую) обнаружить ошибки в приведенных примерах. Как бы там ни было, во втором шифре вскоре выявились огрехи еще более основательные, чем в первом. Соображения безопасности требовали, чтобы Ван и Ада не держали этих стихов под рукой ни в печатном, ни в переписанном виде, и какой бы могучей памятью оба ни обладали, ошибок становилось все больше.
Весь 1886-й они писали друг дружке так же часто, как прежде, по письму в неделю, не меньше; но, как ни странно, третье их расставание – с января 1887-го по июнь 1888-го (последовавшее за чрезвычайно долгим междугородным разговором и совсем коротенькой встречей) – отмечено куда меньшим количеством писем, сократившимся до ничтожных двадцати от Ады (на весну 1888-го пришлось всего два или три) и до вдвое, примерно, большего числа писем от Вана. Извлечений из их переписки мы здесь не приводим, поскольку в 1889 году она была целиком уничтожена.
(Я предлагаю вообще выбросить эту главу. Приписка Ады.)
– Марина расписывает тебя, не жалея красок, и сообщает, что «уже чувствуется осень». Весьма по-русски. Твоя бабушка что ни год неизменно повторяла эти слова в одно и то же время, даже в самый жаркий день на вилле «Армина»: Марина до сих пор не уяснила, что это анаграмма моря, а не ее имени. Прекрасно выглядишь, сынок мой, представляю, однако, до чего тебе осточертели ее девчонки. Поэтому хочу тебе предложить...
– Да нет, они мне страшно понравились, – промурлыкал Ван. – Особенно мила меньшая, Люсетта.
– Хочу предложить тебе отправиться сегодня со мной на коктэйль. Его устраивает великолепная вдова сомнительного майора де Прей, – состоявшего в сомнительном родстве с нашим покойным соседом, очень хорошим стрелком, жаль только, в тот день на Выгоне свету было маловато да какой-то назойливый мусорщик все лез под руку с криками. Так вот, у сей великолепной и влиятельной дамы, высказавшей желание помочь одному моему другу (откашливается), имеется, как я слышал, пятнадцатилетняя дочь, Кордула, которая бессомненно вознаградит тебя за растянувшиеся на целое лето игры в жмурки с младенцами из Ардисовского Леса.
– Мы играли преимущественно в скрэббл и снап, – сказал Ван. – А твой нуждающийся в помощи друг тоже из моей возрастной группы?
– Это будущая Дузе, – строго ответил Демон, – собственно, нынешний прием и устраивается, чтобы ее «протолкнуть». Так что будь любезен ограничиться Кордулой де Прей, а Корделию О'Лири предоставь мне.
– D'accord, – сказал Ван.
Мать Кордулы, перезрелая, в пух и прах разодетая и расхваленная комедийная актриса, представила Вана турецкому акробату с рыжими волосками на орангутановых руках и пронзительным взглядом шарлатана, каковым он отнюдь не являлся, будучи в своей облой области великим артистом. Вана настолько захватила беседа с ним, советы по части тренировок, которыми акробат засыпал ловившего каждое слово мальчика, а вместе с тем зависть, желание славы, почтительность и прочие подростковые чувства, что на круглолицую, маленькую и пухленькую Кордулу, облаченную в вязаный красный свитер с высоким сборчатым воротом, у него почти не осталось времени, – как и на дивную молодую особу, на чьей голой спине небрежно покоилась отцовская рука, которой Демон подталкивал ее то к одному, то к другому нужному гостю. Впрочем, тем же вечером Ван нос к носу столкнулся с Кордулой в книжной лавке, и девчушка сказала ему:
– А кстати, Ван, – я ведь могу тебя так звать, правда? Мы с твоей кузиночкой, с Адой, школьные подружки. Ну да. Так объясни мне, пожалуйста, что ты такое сделал с нашим трудным ребенком? В самом первом письме из Ардиса она попросту пела – это Ада-то! – о том, какой милый, умный, необычайный, неотразимый...
– Глупышка. Это когда же было?
– В июне, по-моему. Позже она прислала еще письмо, но ее ответы – я, видишь ли, почувствовала ревность – честное слово! – и забросала ее вопросами, – так вот, ответы были уклончивы, а Вана в письме, почитай, и не было.
На этот раз Ван пригляделся к ней пристальнее. Он где-то читал (мы могли бы, поднатужась, припомнить точное название книги, нет, не Тильтиль, это из «Синей бороды»...), что мужчина может без особых усилий распознать молодую, одинокую лесбиянку (распознание пожилых, тех, что держатся, будто пришитые, одна за другую, вообще никаких усилий не требует) по соединению следующих трех признаков: слегка дрожащие руки, насморочный голос и паническое рысканье глаз, возникающее, когда вам случается с очевидным одобрением обозреть те из прелестей, которые случай вынуждает ее выставить напоказ (прелестные плечи, к примеру). К Кордуле, напялившей поверх редкой неказистости свитера «гарботош» (макинтош, туго перетянутый пояском) и державшей, вызывающе уставясь Вану в лицо, обе руки глубоко в карманах, ничто из этого (да, – «Mytilene, petite isle»[78], Луи Пьера) казалось неприложимым. Коротко остриженные волосы ее имели оттенок средний между сухой и моклой соломой. Светло-синий раек мог принадлежать миллионам похожих глаз из небогатых пигментацией семей французской Эстотии. Рот выглядел по-кукольному хорошеньким, особенно когда она с сознательным жеманством поджимала губки, отчего на лице возникали складки, называемые у портретистов «серпиками» и представляющие собой в лучшем случае продолговатые ямочки, а в худшем – морщинки, спускающиеся вдоль иззябших щек девушки в валенках, торгующей яблоками с тележки. Когда рот, как сейчас, приоткрывался, показывались зубы в проволочных скрепах, впрочем, она быстро вспоминала о них и немедля смыкала уста.