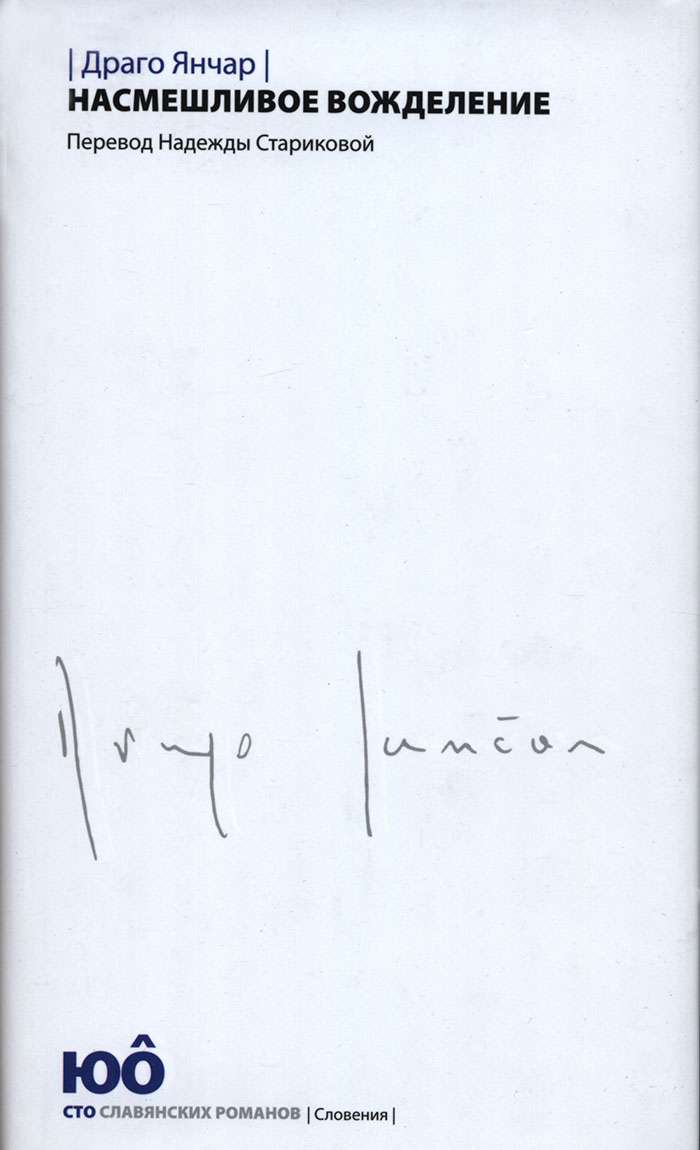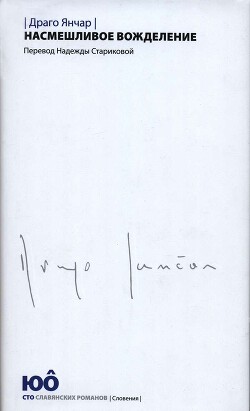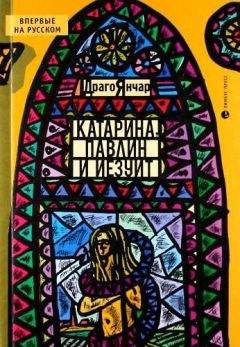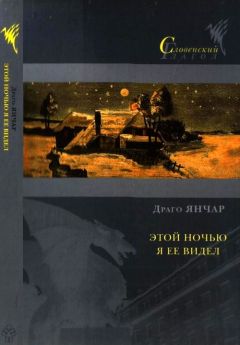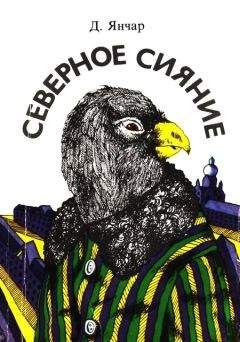Новом Орлеане, пароходы еще возят туристов. Если бы «Натчез» доплыл туда, сестру ничего бы не остановило. Каждую неделю звонит, говорит, что бросит все и приедет к ней. Но сестра никогда этого не сделает. Скорее, она, Ирэн, когда-нибудь вернется в то тихое место, откуда она родом. Воздух чистый, листья желтые, когда-нибудь она туда вернется. Тогда, когда состарится. Но сначала уедет в Нью-Йорк. Скоро.
Грегор тоже куда-то вернется. В один прекрасный день он свалит с этого бескрайнего континента. Больше этой подвижной точки, объявившейся здесь, в его мягком географическом подбрюшье, не будет. И никто не узнает, была ли она вообще когда-нибудь. Он вдруг окажется дома, где его место, среди людей, к кругу которых принадлежит. В долине самоубийц, которая в один прекрасный день исчезнет. И все люди в ней. Она слышала о лангобардах? Их больше не существует, осталось только название. Как некое животное, которое рождается, бродит где-то, потом след его теряется, никто и не заметит, что оно вообще существовало. Это про него, это про нее. Но пока они вместе. На время, безусловно, но в этот самый момент вместе.
3
Влюбленные, а также те, кому только кажется, что они влюблены, рассказывают друг другу о своих делах. Семейные истории, истории о друзьях, истории о городах. В этом не только попытка довериться, поделиться, но и нечто нарциссическое: показать себя и свое окружение. Создать объемное изображение самого себя, расширить суженный вдвое мир. Создать групповой портрет с фоном. Рассказчик, понятное дело, заметно выделяется из всего полотна. А само полотно приобретает новое измерение, глубину.
При выборе темы оба должны были быть предусмотрительными. Питера, которого оба обманывали, упоминать не стоило. Тут разговор застревал. Даже его велосипед, на котором Грегор каждый день ездил по предместьям, взывал к их совести. Анна была далеко, но все равно везде лежали ее письма, ее голос, звучавший по телефону, проникал в комнату, витал в воздухе. Истории из Индианы и Словении были выдумкой. Единственно реальный мир был здесь. Мир ограниченный, островной, изолированный, недолговечный. Каждому из них двоих неотвратимо не хватало той части настоящего, реального мира, который до этого наполнял жизнь. Действующей, живой части мира, одной там, в Нью-Йорке, другой — далеко, по ту сторону океана.
Как-то он проснулся ночью, она сидела на краю кровати. Плечи подрагивали. — Нехорошо, — сказала. — Нехорошо. Она не хочет чувствовать себя изгоем. Это на грани преступления. Не пойдет, так не пойдет.
Между ними все время стояло понимание неотвратимой временности их отношений. Поэтому она рассказала о своей сестре и ее городишке в Индиане. Поэтому он рассказывал о своем племени самоубийц. Это было самое большее из того интимного, что каждый из них смог извлечь на свет из образов своего личного мира и подарить другому. Весь настоящий мир продолжал жить своей жизнью. Они же вдвоем были просто историей.
4
Несколько дней парило, потом хлынул ливень. Вроде бы, обычный ливень. Но благодатные небесные воды просто оросили город. Весенний дождь — это время, когда совершенно особая тристиция орошает душу. У Блауманна это было записано в разделе «Меланхолия любви».
Равномерный шум дождя внезапно все изменил. Дома, и улицы, и людей. Он лежал в полусне на кровати, в темноте, чувствуя, что окно открыто, ощущая льющуюся из него свежесть, и слушал, как струи дождя хлещут по тротуару. Голоса на улице давно стихли, не было слышно даже обычного шума дальних увеселительных заведений. Гости остались в отелях, жители квартала залезли в свои норы. Они лежали в постелях или, может быть, стояли, прислонившись к окнам, погруженные в себя и захваченные бульканьем ручейков, вибрацией дождя по крышам. Благой небесный катаклизм, заставляющий память вернуться к ощущению первобытного чуда, в хижину, в пещеру, в детство, в защищенность ласточкиного гнезда, лисьего логова.
До полудня в библиотеке он отчетливо почувствовал, что начинает темнеть, хотя в читальном зале продолжал гореть неоновый свет. Затем послышался гром, хотя в библиотеке была звукоизоляция. Выйдя в вестибюль, он увидел там хохочущих мокрых студентов, пришедших из кампуса. Они трясли гривами как молодые зверята. Капли дождя отскакивали от горячего асфальта перед зданием, все обозримое пространство заслоняла дождевая завеса. Казалось, над городом пронеслась гроза и солнце появится в любую минуту. Они с Фредом в молчании ехали вдоль озера Пончартрейн, наблюдая хлюпанье дождя по бурой поверхности, деревянные дома возле пристани в сером дождевом тумане, одинокие мачты пришвартованных парусников. Когда идет такой дождь, — заметил Фред, я чувствую, словно я… дома. Потом оба молчали. Фред никогда не говорил о своем доме. Но это было сказано так, словно дом, который у него был здесь с Мэри и детьми, внезапно перестал быть его домом. Или настоящий дом был только в детстве где-то в Бостоне… Но для Грегора «до́ма» было неизмеримо дальше, чем для Фреда, что тому даже не приходило в голову. Каждый откуда-то родом, каждый где-то чувствует себя дома, каждый потом оказывается где-то еще. В первые недели все к нему относились как к какому-то экзотическому животному, переживающему известный культурный шок, ему казалось, что для него это своего рода электрошок, что-то, что после посадки самолета может сотрясти или ударить. Фред сейчас упомянул только о своем доме, каждый думает о своем и, если считает нужным, говорит об этом. Дело его. Фред высадил Грегора перед «Ригби», вспомнив, как лило в день его приезда. Как они вдвоем с Мэг бежали под одним зонтом. Вот почему он вдруг задумывается о доме, и дом, который находится здесь, вдруг перестает быть настоящим.
Дождь не прекращался. Во второй половине дня по улицам уже текли целые потоки. Люди у дверей баров и магазинов в ожидании поглядывали на небо. Словно тараканы, высовывали локаторы из своих темных убежищ. Потом отодвинулись дальше внутрь и скрылись, наконец, в своих жилищах. По улицам текло так, словно дамба Миссисипи не выдержала, и буро-желтые речные воды затопили Французский квартал и запенились на тротуарах. Возможно, древняя память о паводковых водах, которые здесь свирепствовали когда-то, держала город в безмолвном напряжении. В голове Грегора засело слово до́ма. Струи дождя, стекавшие на тротуар, вдруг превратились в поток воды, плещущий из сломанного желоба какой-то горной хижины. Где-то среди лугов, в горах Похорья. Ночная пастораль с ее холодной свежестью, звуковыми переливами от этого плеска из желоба до звонко-серебряного журчания ручья, плеска озера, темной тишины колодца.
5
Он лежал. Имена, движения, фразы, взятые из опубликованных и рукописных библиотечных материалов, пастельные тона,