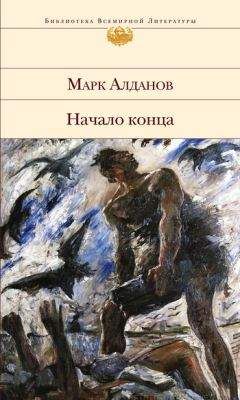– Пустяки! Ты пей. Я тебе говорю: Бог простит. Бог простит.| Бог тебе многое простит. Пей!
– Да я же вам говорю, что мне не хочется. Не буду же я насильно пить?
– О чем он говорит? – зашептал слева Розанов. – Вы заставьте его громче говорить. Переспрашивайте, чтобы громче, а то мне не слышно.
– Да и слушать нечего. Просто уговаривает вино пить.
– А вы наводите его на эротику. Господи! Да неужели не умеете повести нить разговора?
Мне стало смешно.
– Да не мучьте вы меня! Вот тоже нашли Азефа-провокатора. И чего ради я буду для вас стараться?
Я отвернулась от Розанова, и два острых распутинских глаза, подстерегая, укололи меня.
– Так не хочешь пить? Ишь ты какая строптивая. Не пьешь, когда я тебя уговариваю.
И он быстрым, очевидно привычным, движением тихонько дотронулся до моего плеча. Словно гипнотизер, который хочет направить через прикосновение ток своей воли.
И это было не случайно.
По напряженному выражению всего его лица я видела, что он знает, что делает. И я вдруг вспомнила фрейлину Е., ее истерический лепет: «Он положил мне руку на плечо и так властно сказал…»
Так вот оно что! Гриша работает всегда по определенной программе. Я, удивленно приподняв брови, взглянула на него и спокойно усмехнулась.
Он судорожно повел плечом и тихо застонал. Отвернулся быстро и сердито, будто совсем навсегда, но сейчас же снова нагнулся.
– Вот, – сказал, – ты смеешься, а глаза-то у тебя какие – знаешь? Глаза-то у тебя печальные. Слушай, ты мне скажи – мучает он тебя очень? Ну, чего молчишь?.. Э-эх, все мы слезку любим, женскую-то слезку. Понимаешь? Я все знаю.
Я обрадовалась за Розанова. Очевидно, начиналась эротика.
– Что же вы такое знаете? – спросила я громко, нарочно, чтобы и он повысил голос, как это многие невольно делают.
Но он снова заговорил тихо:
– Как человек человека от любви мучает. И как это надо, мучить-то, все знаю. А вот твоей муки не хочу. Понимаешь?
– Ничего не слышно! – сердито с левой стороны ворчал Розанов.
– Подождите, – шепнула я.
Распутин заговорил снова:
– Что за кольцо у тебя на руке? Что за камешек?
– Аметист.
– Ну, все равно. Протяни мне его тихонько под столом. Я на него дыхну, погрею… Тебе от моей души легче станет.
Я дала ему кольцо.
– Ишь, чего ж ты сняла-то? Я бы сам снял. Не понимаешь ты…
Но я отлично понимала. Оттого я и сняла сама.
Он, прикрыв рот салфеткой, подышал на кольцо и тихонько надел мне его на палец.
– Вот когда ты придешь ко мне, я тебе много расскажу, чего ты и не знала.
– Да ведь я не приду? – сказала я и опять вспомнила фрейлину Е.
Вот он, Распутин, в своем репертуаре. Этот искусственно-таинственный голос, напряженное лицо, властные слова. Все это, значит, изученный и проверенный прием. Если так, то уж очень это все наивно и просто. Или, может быть, слава его как колдуна, вещуна, кудесника и царского любимца давала испытуемым особое, острое настроение любопытства, страха и желания приобщиться этой жуткой тайне? Мне казалось, будто я рассматривала под микроскопом какую-то жужелицу. Вижу чудовищные мохнатые лапы, гигантскую пасть, но притом прекрасно сознаю, что на самом-то деле это просто маленькое насекомое.
– Не при-дешь? Нет, придешь. Ты ко мне придешь.
И он снова тайно и быстро дотронулся до моего плеча. Я спокойно отодвинулась и сказала:
– Нет, не приду.
И он снова судорожно повел плечом и застонал. Очевидно, каждый раз (и потом я заметила, что так действительно и было), когда он видел, что сила его, волевой его ток не проникает и отталкивается, он чувствовал физическую муку. И в этом он не притворялся, потому что видно было, как хочет скрыть и эту плечевую судорогу, и свой странный тихий стон.
Нет, все это не так просто. Черный зверь ревет в нем… Посмотрим…
5
– Спросите у него про Вырубову, – шептал Розанов. – Спросите про всех, пусть все расскажет и, главное, погромче.
Распутин косо, через масленые пряди волос, глянул на Розанова.
– Чего этот там шепчет?
Розанов протянул к нему свой бокал.
– Я чокнуться хотел.
Чокнулся и Измайлов.
Распутин сторожко посматривал на них, отводил глаза, и снова.
И вдруг Измайлов спросил:
– А что, скажите, вы никогда не пробовали писать?
Ну кому, кроме писателя, придет в голову такой вопрос?
– Случалось, – ответил Распутин, ничуть не удивившись. – Очень даже случалось.
И поманил пальцем молодого человека, сидевшего на другом конце стола.
– Милай! Вот принеси-ка сюда листочки с моими стихами, что вы давеча на машинке-то отстукивали.
«Милай» живо сбегал за листками.
Распутин раздал. Все потянулись. Листьев, переписанных на машинке, было много – на всех хватило. Прочитали.
Оказалось стихотворение в прозе, в стиле «Песни Песней», туманно-любовное. Еще помню фразу:
«Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя выше и прекраснее их, потому что любовь есть Бог».
Это, кажется, и была единственная понятная фраза. Остальное было набор слов.
Пока читала, автор, очень беспокойно оглядывая всех, следил за впечатлением.
– Очень хорошо, – сказала я.
Он оживился.
– Милай! Дай чистый листочек, я ей сам напишу.
Спросил:
– Как твое имя?
Я сказала.
Он долго муслил карандаш. Потом корявым, еле разборчивым мужицким почеркам нацарапал:
«Надежде.
Бог есть любовь. Ты люби. Бог простит.
Григорий».
Основной, значит, лейтмотив распутинских чар был ясен: люби – Бог простит.
Но почему же его дамы от такой простой и милой формулы впадают в истерический экстаз? Отчего дергалась и пятнами краснела фрейлина Е.? Тут дело неспроста.
6
Я долго смотрела на корявые буквы, на подпись «Григорий»…
Какая страшная сила была в этой подписи. Я знала случай, когда эти восемь корявых букв вернули человека, осужденного судом и уже сосланного на каторгу.
Вероятно, эта же подпись могла бы и отправить кого-нибудь туда же…
– Вы сохраните этот автограф, – сказал Розанов. – Это занятно.
Он действительно долго сохранялся у меня. В Париже, лет шесть тому назад, нашла я его в старом портфеле и подарила автору французской книги о Распутине – В. Бинштоку.
Писал Распутин с трудом, совсем был малограмотный. Так писал у нас в деревне лесной объездчик, который заведовал весенним сплавом и ловил браконьеров. Писал он счета: «Поезда в дачу взад и обратно петь ру» (пять рублей).
Распутин и внешностью на него походил поразительно. Может быть, оттого и не чувствовала я никакого мистического трепета от его слов и жестикуляций. «Бог – любовь, приде-ошь» и прочее. Все вспоминалось «петь ру» и разбивало настроение… Хозяин вдруг озабоченно подошел к Распутину.
– Телефон из Царского.
Тот вышел.
Значит, в Царском знали, где он сейчас находится. Может быть, даже всегда знали, где его искать.
Воспользовавшись его отсутствием. Розанов стал давать инструкции, как наводить разговор на всякие интересные темы.
Главное – пусть расскажет о своих хлыстовских радениях. Правда ли, мол, это, и если да, то как именно он это устраивает и нельзя ли мол, попасть на них.
– Пусть он вас пригласит, а вы и нас прихватите.
Я согласилась охотно. Это действительно было бы интересно.
Но Распутин к столу не вернулся. Хозяин сказал, что его спешно вызвали в Царское Село (а был уже двенадцатый час ночи), что он, уезжая, просил сказать мне, что непременно вернется.
– Ты ее не отпускай, – повторил Ф. его слова. – Пусть она меня ждет. Я вернусь.
Разумеется, никто его ждать не стал. Во всяком случае, наша компания сразу после обеда уехала.
7
Все мои знакомые, которым я рассказывала о состоявшейся встрече, выказывали какой-то совершенно необычайный интерес. Расспрашивали о каждом слове старца, просили подробно описать его внешность и, главное, «нельзя ли тоже туда попасть?».
– Какое он на вас произвел впечатление?
Отвечала:
– Не сильное, но довольно противное.
Советовали этим знакомством не пренебрегать. Никто не знает, что его ждет в будущем, а Распутин такая сила, с которой нельзя не считаться. Он смещает министров, тасует придворных, как колоду карт. Его немилости страшатся пуще чем царского гнева.
Говорили о каких-то тайных немецких ходах через Распутина к Александре Федоровне. Он при помощи своих молитв и внушений руководит нашим фронтом.
– Перейдете до такого-та числа в наступление – наследник заболеет.
Для человека, ведущего какую-нибудь серьезную политическую линию, Распутин показался мне недостаточно серьезным. Слишком дергался, слишком рассеивался вниманием, был сам весь какой-то запутанный. Вероятно, поддавался уговорам и подкупам, не особенно обдумывая и взвешивая. Самого его несла куда-то та самая сила, которою он хотел управлять. Не знаю, каков он был в начале своей карьеры, но в те дни, когда я его встретила, он словно уже сорвался и несся в вихре, в смерче, сам себя потеряв. Повторял бредовые слова: «Бог… молитва… вино», путал, сам себя не понимал, мучился, корчился, бросался в пляс с отчаянием и с воплем, как в горящий дом за забытым сокровищем. Я потом видела этот пляс его сатанинский…