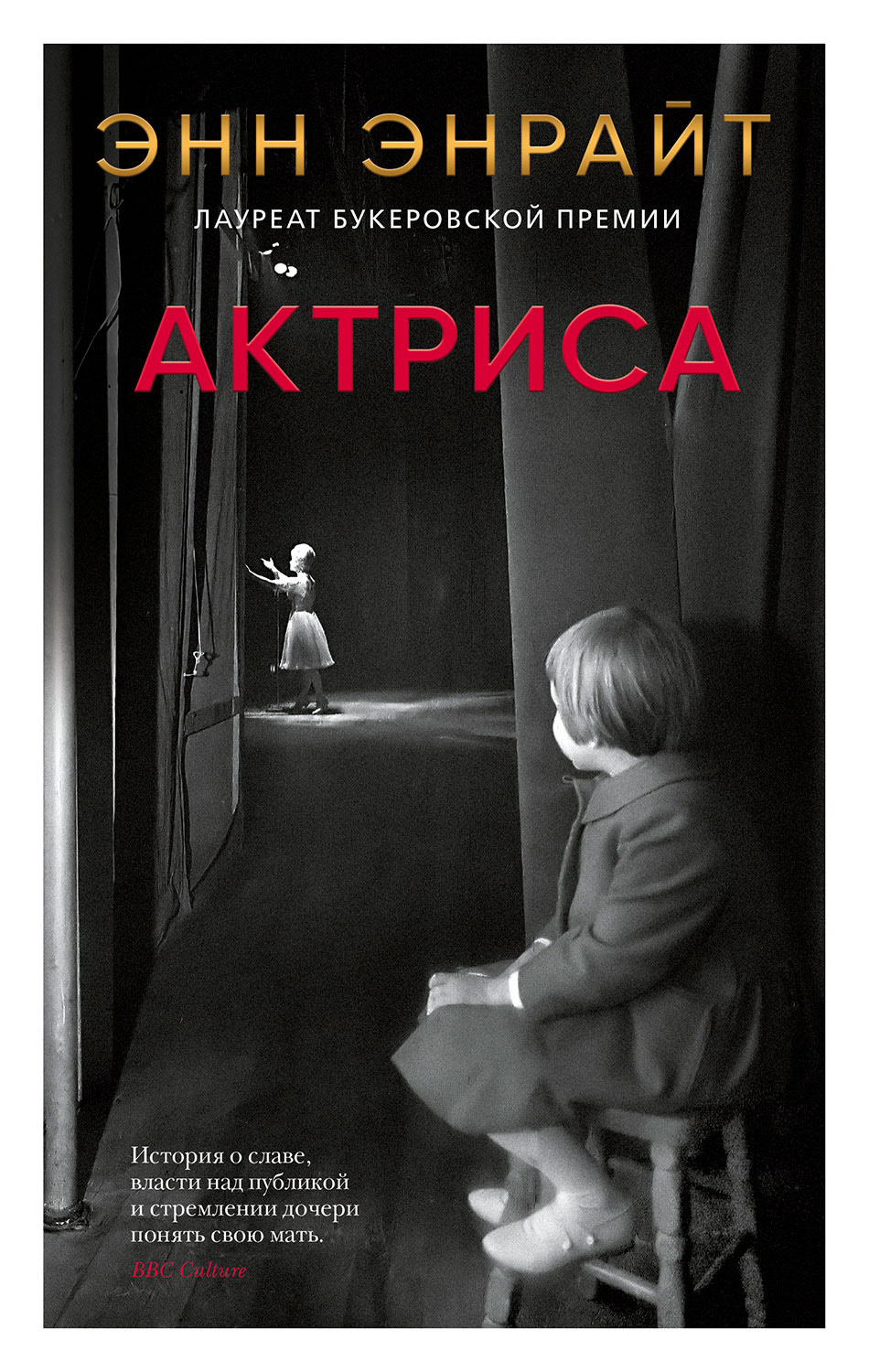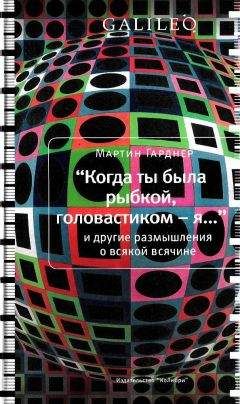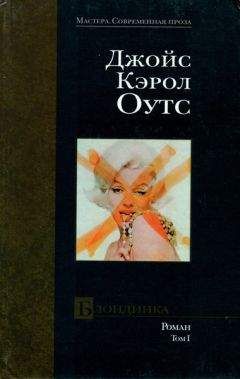преклонном возрасте.
Он всем им давал от ворот поворот. И на том спасибо.
Между тем он постепенно опускался. Ломал кости. Спускал гостей с лестницы. Страдал от провалов в памяти и вконец испортил желудок. Подруга Питера О’Тула рассказывала матери, что во время одной затянувшейся пирушки в пабе «Веселый гусар» Фиц обделался и как ни в чем не бывало принялся озираться по сторонам: «Кто испортил воздух?» – ни дать ни взять хулиганистый школьник.
(«Бог ты мой! – возмущалась мать. – Разве можно рассказывать такое дочери об отце?»)
А потом он умер.
Она сообщила мне эту новость как хорошая мать. Встала рядом со мной – я, как обычно, сидела на краю кухонного стола – и погладила меня по голове. Спросила, как я себя чувствую, и я ответила, что хорошо. Честно говоря, я не понимала, почему она так за меня волнуется. Фиц был стар, а старики умирают. Но я знала, что он мой дед и что мне полагается опечалиться, и вздохнула. Мать наклонилась меня поцеловать:
– Бедная девочка.
Она проделала это безукоризненно, как и я. Но я и мысли не допускала, что она могла любить его так, как я любила ее.
– С тобой все в порядке?
– Да. Все хорошо.
Недели через две она вернулась из очередной поездки, на сей раз без подарков (мне стыдно, но именно это я запомнила лучше всего), и я не сразу догадалась, что в Лондон она ездила на похороны. Какое-то время она молча сидела за кухонным столом.
– Да, спасибо, Китти. – И продолжала сидеть, уткнувшись взглядом в тарелку. Потом уронила голову, легла щекой на вытянутую вдоль стола руку, в которой держала сигарету, и зарыдала – если можно назвать рыданием беззвучное содрогание без единой слезинки. Потом она выпрямилась, провела ладонью по щеке и затянулась. Не выпуская сигареты, съела ужин, без конца подливая себе красного вина.
После нескольких бокалов она заговорила. Рассказала об отвратительных женщинах, которые явились на похороны, и о мужчинах, которые так и не пришли. Фица отпевали в храме, что немного ее удивило, но все устроил его друг, высокопоставленный церковный деятель, похожий на гея, и участие в богослужении приняли еще несколько священников. Горели свечи, стояли мальчики-алтарники, а махал кадилом викарий, нараспев читая молитвы. Действо напоминало неудачный утренник где-нибудь в Богноре, сказала она: в зале пусто, а на сцене полно народу. Мальчик в стихаре с круглым воротником тоненьким голоском выводил «Panis Angelicus»; когда выносили гроб, затянул «Веру наших отцов» – гимн, который она впоследствии любила напевать, делая гимнастику для ног, для чего бегала вверх и вниз по ступенькам.
«Ве-е-ера на-а-ших отцо-о-ов, ве-ра свята-а-ая!»
Старый паскудник, так она его называла. Знаешь, что он учудил затем? Этот старый негодник?
Через некоторое время после его смерти, придя домой из школы, я услышала, что в гостиной включен проигрыватель. Я не разобрала, что там такое, но звук словно заползал мне за шиворот, оседая на коже. Я толкнула дверь. Мать сидела на диване с конвертом от пластинки в руке. «Избранная ирландская поэзия». Читал стихи мой дед. Его голос заполнил собой все пространство между нами.
Она увидела меня и улыбнулась.
Голос у него был волшебный. Вы никогда не догадались бы, что такой богатый полутонами тембр принадлежит мужчине ростом пять футов четыре дюйма. Но в этом голосе было что-то еще, и мы обе это заметили. Мастерство.
Он декламировал Йейтса. С ирландским акцентом, в старомодной манере. Каждый слог звучал отдельно, словно его диктовал учитель с указкой.
Я стряхну этот сон – и уйду в свой озерный приют,
Где за тихой волною лежит островок Иннишфри;
Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют
И сверчки гомонят до зари.
Фиц уловил хрупкость старика и раздраженную интонацию Йейтса, вынужденного выставлять свою тоску напоказ.
Там из веток и глины я выстрою маленький кров [9].
Спрашивать, знал ли Фиц Йейтса лично, нужды не было. Разумеется, знал. Они встретились в Лондоне на каком-то гала-концерте, и поэт принял его за Банни Гарнетта, приятеля леди Оттолайн Моррелл. Фиц часто рассказывал эту историю. Поскольку Банни, помимо всего прочего, был известным геем, она приобретала особую пикантность.
Сегодня мое внимание невольно привлекают подобные детали, заставляя задуматься, а может, он и сам был… того? Может даже, они все были?.. Мой дед, его друг Макмастер, другие мужчины?.. Может, они все были геями? Может, в этом все дело?
Но есть и другие детали, которые вытеснить из памяти уже труднее. Однажды, я уже выросла, мать сказала мне, что Фиц в старости страдал «истощением души». Говорила она это за несколько месяцев до того, как сама заболела. Мы сидели на террасе кафе в Нерхе, испанском южном городке, куда приехали в мертвый сезон. Она погасила сигарету в пепельнице, и пепел тут же унесло ветром. Она говорила с такой откровенностью, словно сознавала, что от ее отца к моменту ухода уже мало что оставалось.
Лондон, когда в нем не стало Фица, она возненавидела. Ненавидела презрение, с каким встречали ирландский акцент; расизм, говорила она, цвел пышным цветом. «Черным, собакам и ирландцам вход воспрещен» – в городе еще кое-где можно было наткнуться на такую табличку. По мнению англичан, мы все были «грязные и ленивые, пьяницы и дураки». Ты даже не представляешь себе, что значит сидеть за ужином с человеком, который уверен в собственном превосходстве, уверен, что его предки веками принадлежали к высшей касте, и не важно, что ты добился многого, а он – ничего. Не в смысле мировых достижений, а в смысле его мелкой подлой душонки. Какой-то замухрышка – недоразумение, а не человек – задирает перед тобой нос только потому, что он англичанин.
Я все это впитывала. То есть, все это слушала. И не останавливала ее словами: «Но ведь ты тоже англичанка».
В одной из первых ирландских телевизионных программ Кэтрин О’Делл исполнила «Средь плакучих ив», известную песню на стихи Йейтса. Ее передавали вечером, в начале вещания RTÉ в 1961 году. Из всех утраченных записей этой мне не хватает больше всего. Она интереснее съемки высадки на Луне. Ради такого случая был куплен телевизор, который поставили в гостиной у окна, чтобы дотянуть кабель до антенны на крыше. В комнату набилось битком народу. После ее выступления все запричитали на ирландском; взрослые мужчины утирали слезы. На следующий день в школе ко мне подошла Джеки Гогарти, самая красивая в классе девочка, и мечтательно подергала меня за