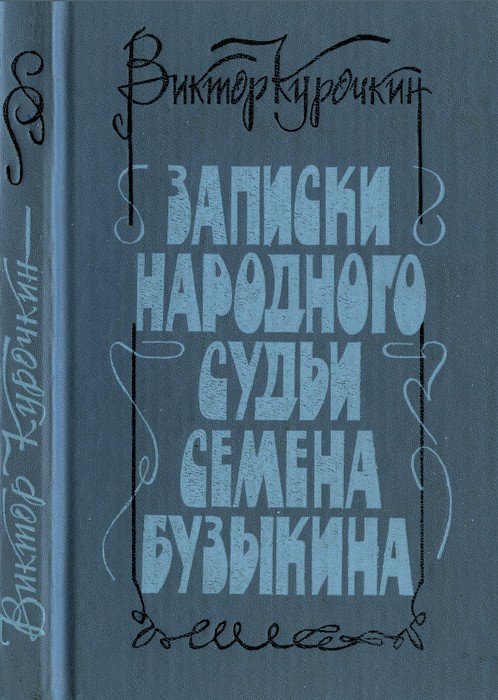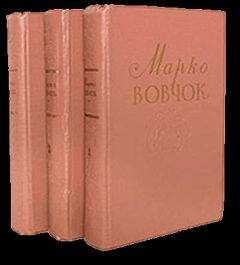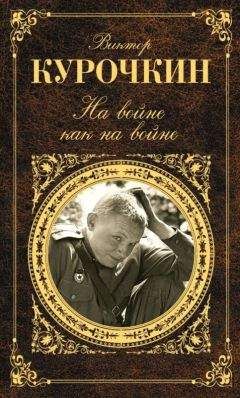медленно выплыло оранжевое солнце. Лес принял резко лиловый цвет, мелкие облачка на небе окрасились: те, что были ближе к солнцу, просвечивались насквозь, подальше — горели ярко-красным огнем, а у самых дальних только накалились края. Бездымный пожар охватил деревню Большие Ковши. Окна, отражая лучи заходящего солнца, казалось, плавились…
Но вот резко оборвался последний луч, стало вокруг серенько. Быстро стемнело. Но не так, как вчера: небо усыпали звезды… Филипп сидел как окаменелый.
— Будет мороз, — прошептал он и добавил: — Большой мороз.
И мороз действительно стукнул такой, что Авдотье пришлось сходить в хлев и старой шубой укрыть теленка, а чтоб петух не отморозил гребень, она сняла его с насеста и принесла в избу.
Ночью Филипп спал плохо, а утром с трудом отбил промерзшую дверь и пошел к парникам.
Утро выдалось яркое и чуткое. Каждый звук: и хруст под ногою, и визг колодезного журавля, и даже поскрипывание ведер на коромысле — необычно тонко и долго звенел в чуть подсиненном воздухе. Тополя, схваченные морозом, заиндевели и под белым зимним солнцем сверкали как стеклянные. Кругом блестел снег. Кучки изб на буграх казались издали мухами, облепившими сахар.
Внезапно над средним бугром встали три перевитых столба дыма. На самом дальнем бугре, увидев дым, сказали:
— Гляди-ка, бригадир-то наш разошелся.
Все три дровяные кучи на парниках пылали одновременно. Около них сгрудились колхозники с лопатами. Здесь же суетился возбужденный Филипп. Он старался быть веселым, смеялся, покрикивал и, гулко стукая рукавицами, шутил: «Эх, денек, мать честная, так денек!»
Вскоре его вызвали в правление. Убегая, Филипп наказал Максиму Хмелеву — не зевать здесь.
— Что же ты удобрения-то в снегу оставил? — спросил председатель колхоза, как только Филипп переступил порог.
— Виноват, Илья Фомич, запамятовал, — пробормотал Филипп.
— И торф на поля у тебя не вывозится; семена не сортируются. А ведь весна не за горами.
Филипп побелел и, сглотнув горький ком обиды, в первый раз в жизни выкрикнул в лицо начальства злобным тонким голосом:
— Я вам не гусь, товарищ председатель. Филипп туды, Филипп сюды. Только гусь умеет летать, плавать, ходить. А я не гусь.
Пока Филипп бегал, искал людей — возить торф, пока разобрался с удобрениями, прошло немало времени. А когда он возвратился на парники, там догорал последний костер. Около толпились мужики. Подходя, Филипп услышал:
— Председатель ему говорит: «Торф возить надо», а он машет кулаком и кричит: «Я вам не гусь! Ха-ха…»
У Филиппа что-то оторвалось внутри, в глазах потемнело.
— Что сидите? — задыхаясь, спросил он. Высокий парень вскочил, вытянулся, приложил к шапке рукавицу и, озорно поводя глазами, отчеканил:
— Разрешите доложить, товарищ бригадир: две кучи сгорели, — ждем, когда догорит третья…
— Почему землю не роете, сукины сыны? — вне себя закричал Филипп.
Стало тихо. Бородатый Максим Хмелев сдвинул на затылок — шапку рыжего собачьего меха и протянул по складам:
— А ты по-ди по-смо-три…
На месте сгоревших дров чернела земля. Филипп стукнул лопатой, земля зазвенела.
— Ну вот и все, — сказал Максим и посмотрел на безоблачное небо: — Солнце на ели, а мы еще не ели… Иди, иди домой, отдохни… Гусь! — Он беззлобно хохотнул, потрепал Филиппа по плечу и пошел. За ним ушли и остальные.
Домой Филипп пришел раньше обычного.
— Вздуй самовар, Авдотья, а я пока прилягу. Знобит что-то.
Но чай пить не пришлось… Филипп слег, а к ночи потерял сознание. В бреду выкрикивал: «Эх, Филимон Петрович, за что вы меня… вознесли?.. Мороз дело испортил».
…Еще прошел месяц. Наступил март. Бригадой теперь снова руководил Ремнев. Филипп все хворал. Он заметно ослаб, и что-то новое появилось в его бесцветных глазах. Днем Филипп, вытянувшись, тихо лежал на кровати, ни на что не жаловался и все молчал. Казалось, он непрерывно и сокрушенно думает о чем-то. Изредка он поднимался, держась за стены, добирался до окна и смотрел на улицу, поминутно вытирая глаза. От яркого света глаза у него слезились.
Солнце уже насквозь прожигало снег. С крыш теперь не капало — текло. Амбар напротив окна почернел и превратился в источенный червями гриб. А еще утром он, увешанный длинными сосульками, походил на стеклянный абажур с подвесками. Вчера около тына была одна прогалинка, сегодня их стало три, а на исходе дня вдоль тына проступала неровная черная кромка.
— Весна, весна… — шептал Филипп, постукивая пальцами по оконной раме.
Приходила Авдотья, сажала его за стол. Руки у Филиппа дрожали, щи из ложки лились на грудь, крошки сыпались на колени, застревали в поредевшей бороде. Потом Филипп опять ложился. Иногда он спрашивал:-
— А что говорят-то про меня, Авдотья?
— Все пытают, когда выздоровеешь.
— Так ли? — сомневался Филипп.
— Так, так. Вот намедни сам председатель спрашивал. Обещал в воскресенье навестить. Антон Ремнев каждый раз, как встретимся, кланяется тебе. И другие тоже.
— Антон-то у меня, когда, третьеводни был, — подумав, вспоминал Филипп. — Советоваться приходил…
— Ой, что же я забыла, — спохватывалась Авдотья, — Максим Хмель опять прислал тебе гостинец, — и она вынимала из кармана яблоко, — к чайку, говорит…
— Ишь ты, какое ядреное, — улыбался Филипп, разглядывая яблоко, а потом отдавал Авдотье: — На-ка, спрячь. Прибежит внучек, слопает.
…В конце марта Филиппа навестил Стульчиков. Авдотья щипала лучину на растопку. Филипп по обыкновению лежал, подсунув под голову руки. Брякнула щеколда. В сенях загромыхали под сапогами половицы. В избу вошел Филимон Петрович. Авдотья ахнула, растерялась, стала искать тряпку — вытереть гостю хромовые сапоги. Филипп сказал негромко:
— Ладно, Авдотья, не мельтеши тут.
— Лежать, лежать, — загудел Филимон Петрович, увидев, что Филипп пытается подняться, — отдых, спокойствие — лучший доктор.
— Полегчало теперь, — вмешалась Авдотья. — А то думала — умрет он. Ведь лежал без памяти… — Твердил одно и то же: «Мороз помешал…» Все с вами разговаривал, Филимон Петрович.
— Ладно, ладно, Авдотья, — опять остановил ее Филипп, — иди, занимайся своим делом.
Филимон Петрович подвинул к кровати стул.
— Видишь, не забыл я тебя, Филипп. Я бы раньше приехал, да все дела да дела. — Филимон Петрович поправил подушку и подтыкал под Филипповы бока одеяло.
— Замаялся он, сердешный, — всхлипнула Авдотья.
Филимон Петрович прошелся по избе и, заметив в переднем углу под образами вереницу почетных грамот, наклеенных на потемневшие бревна, воскликнул:
— Ба, вот так Егоров! Не просто пастух, а знаменитый пастух… Сколько же их — две, четыре, пять… восемь, девять, — сосчитал Филимон Петрович. — Молодец. Вот так Филипп!
— Он у меня почти что каждый год получал, — проговорила Авдотья за спиной Филимона Петровича и, подойдя, ткнула пальцем в крайний листок: — Эту еще до войны дали, а эту